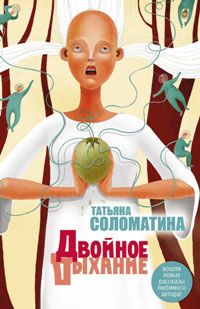Татьяна Соломатина - Двойное дыхание (сборник)
– Ты просто устала. И говоришь чушь. Лен, Новый год всё-таки.
– Ах, ну да. Как я могла забыть. Сакральный переход, за которым всех ждёт новое счастье.
– Не юродствуй.
– Могу я хоть с тобой расслабиться? Или ты хочешь, чтобы я вышла к ним, – махнула она рукой туда, за дверь, где в недрах родовспомогательного учреждения бурлила жизнь: кто-то рожал, кто-то мыл пол и сооружал праздничный стол в ординаторской отделения обсервации. Пришибленный Серёжа, переживший множество смертей у себя на столе, но так и не научившийся профессиональной холодности, курил, сидя на корточках, заботливо прикуренную для него надзирательницей сигарету. Витёк хотел было присоединиться, неумело затянулся и закашлялся. Русоволосая Анечка, щедро покрывшая голову лаком с блёстками, рассмеялась своим естественным детским смехом. «Старая лярва» Семёновна мягко улыбнулась и сказала не своё: «Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя»…
– Можешь, Ленка. Можешь. Со мной ты можешь всё. Страдать из-за незнакомой тебе женщины, умершей полчаса назад. Плакать из-за неузнанного нашего ребёнка, тридцать лет тому оставленного в лотке абортария. И ни в этом, ни в том нет ни твоей, ни моей, ни чьей-либо вины. Есть переменчивая Жизнь. И постоянная Смерть. Сёстры-подружки. Младшая и Старшая. – Из Ленкиных бесцветных глаз катились слёзы. – И мы тасуем переменные в этом древнем, как «каналы» на Марсе, уравнении, чтобы в конце концов все – и двоечники и гении – вышли на одну и ту же постоянную. Просто способы решения разные. А корень – всегда один. Ну, всё, не реви. Пошли, мать. Слышишь? Там уже расставляются бокалы. Гремят биксами акушерки и шуруют швабрами санитарки. Испуганно курят на улице твои и мои ученики, и даже эта симпатичная надзирательница, напуганная до смерти. – Он хохотнул. – Хотя, казалось бы… И они все ждут. Ты же знаешь – Деда Мороза им всё равно не дождаться. Выйдем хоть мы. Им ведь совсем не обязательно знать, что мы тоже понятия не имеем о том, что делать с этим самым единственным корнем уравнения. Может, не в корне дело-то, а всё-таки в УРАВНЕНИИ, а?!. В связи с чем предлагаю немедленно пойти и выпить! Ты в мою акушерскую интуицию веришь?
– Верю.
– А в УРАВНЕНИЕ?
– Верю.
– Ну, тогда «кушать подано!»
P.S.
Кузнецова Мария Владимировна умерла спустя пару месяцев от пневмоцистной пневмонии в тюремной больнице. Её даже не успели осудить за непреднамеренное убийство матери-алкоголички, приобщившей её к «трассовому» бизнесу.
Игорь Анатольевич , как и прежде, работает на должности заведующего гинекологическим отделением. В конце концов, он на самом деле весьма неплохой хирург и организатор. Кроме денег, в этой жизни с ним более ничего не произошло.
Виктор Давидович женился. На Анечке. Он переехал от маменьки в квартиру молодой жены. Пётр Александрович сделал им царский подарок на свадьбу, оформив дарственную на квартиру и уплатив все налоги. Анечка управлялась со свекровью похлеще дрессировщика тигров. У старой дамы даже прекратились гипертонические кризы и чудесным образом прошли невралгии. Кто бы мог ожидать такого от «беззащитного щенка»?
Сергей Алексеевич стал жить гражданским браком с надзирательницей. У которой конечно же были имя и фамилия, вполне привлекательная внешность и масса прочих достоинств. Она железной рукой обустроила Серёгин быт и уважительно относилась к его профессии и Псу. Спустя некоторое время у них родилась дочь. Пекинес перестал писать в неположенных местах, а Серёжа купил машину у Клюкина. Потому что Клюкин купил себе новую.
Светлана Анатольевна вышла замуж за Вадима Георгиевича .
Пётр Александрович и Светлана Григорьевна все ещё вместе. После того как у Петра Александровича прошла язва, он занялся с внуками авиамоделированием.
Елена Николаевна удочерила ребёнка, рожденного Кузнецовой Марией Владимировной . Конечно, у неё возникли некоторые трудности в связи с возрастом, но в нашей стране за деньги можно всё. Иногда это неплохо. Диагноз «ВИЧ-позитивная» был со временем снят по данным лабораторных и клинических исследований. Её муж гордо вышагивал по скверу с коляской поросячьего колеру, пока жена была на работе, и ни за что не хотел отдавать дочь в детский сад.
– А как же Новый год? – спрашивала его Лена, улыбаясь.
– Что Новый год? Я с ней буду по утренникам ходить, – бурчал он в ответ.
– Нет! Ты не понимаешь! – строго указывала ему Елена Николаевна. – Одно дело смотреть спектакль и совсем другое – участвовать. Надо самой быть снежинкой, а не только наблюдать, как где-то в глубине небес рождаются и падают другие.
Коротышка Чак
Так неловко глядеть на мир снизу вверх.
Не из-за того, что шея затекает. А именно неловко. Как бы говоря: «Извините!» Но это поначалу. Только поначалу…
«Зачем я такой? Мой мир должен был быть ниже…»
Так думал Чак, сидя на диване, прижав колени руками к подбородку и созерцая через огромный экран окна бисер дождевых капель, которые быстрыми паучками иногда сбегали по стеклу вниз… «Всё стремится вниз. Вода стекает, камень падает, самолёты рушатся, корабли уходят на дно… А я живу в каморке на семнадцатом этаже. Мир смеётся надо мной. Правда, сверху есть ещё восемь этажей. Ну, тогда в пентхаусе должны жить уже совсем карлики. Потому что на первом этаже живёт Билл – он баскетболист. Высоченный, как телеграфный столб. Смотришь на него и думаешь: „Почему он не падает?“ Так и хочется врыть его в землю по пояс. Для устойчивости. Выше – семейная пара. Он – сноб, а она – красивая. И я ей по плечо. Биллу она, наверное, по пупок. Своему снобу – по нос. Идеальное сочетание. Тот, в свою очередь, Биллу по грудь. А я на семнадцатом. И если чуть-чуть напрячь воображение – они, наверное, смогли бы носить меня в карманах по очереди…»
О таких вещах Чак думал всегда. Сколько себя помнил. А помнил он себя – так чтобы хорошо, осмысленно, – наверное, лет с шести. Ростом он тогда был чуть выше табуретки.
«Я вырасту и всем вам покажу!» – кричал он своим сверстникам в кривляющиеся подбородки. «Я вырасту!» – топал он маленькой ножкой на отмахивающихся от него, как от назойливой мухи, вредных девчонок.
И он рос. Не спеша, как все.
«Класс, встать!» Все встают. А маленькому Чаку, что встать, что остаться сидеть – ни черта всё равно не видно. Что так – одни спины вокруг, что эдак. Правда, и его тоже не видно… Эх, маленький, маленький Чак. Человечек по прозвищу Чекушка.
«Почему я такой? Я должен быть выше… Как все!»
И он становился выше. Просто как будто отставал немного. Задержался на старте и теперь никак не мог нагнать. И это отставание, этот разрыв – не давали ему покоя.
Неплохой колледж – спасибо родителям. Детские простые и грубоватые насмешки сверстников остались в прошлом. Их сменили перешёптывания и политкорректные смешки девочек на трибунах в спортзале.
Какие-то ферменты, витамины, гормональные препараты… Родители старались помочь, чем могли.
«Я должен! Должен быть выше!»
И он становился выше. Но мужчины и женщины вокруг тоже становились выше. Старые приятели становились выше и женились. Становились выше вредные девчонки и выходили замуж. Рожали выросшим мужчинам детей, и те, в свою очередь, становились выше не по дням, а по часам, догоняя Чака в его вечной «гонке за лидером».
Он никогда не опускался до высоких каблуков, приподнятой феном шевелюры или, там, бейсболки на размер меньше, нет. Он боролся. Часами – до посинения фаланг пальцев, висел на турнике, встроенном в дверной проём. Бассейн каждый день. Гимнастика на растяжку. В общем, всё, что советовал терапевт. Пожилой симпатичный добрый дядька. Невысокий, к слову. Всего-то метр семьдесят. Но не метр же сорок семь! Каково, а?! Нет, каково каждый день по нескольку раз садиться в лифт с НОРМАЛЬНЫМИ людьми и дышать им в пупки, в подмышки?! Бояться, что они перепутают тебя с мебелью и поставят на голову сумочку, чтобы дать отдых рукам!
Мужчины – как призрачные тени великанов в вагонах метро. Женщины – недоступные прекрасные вершины…
Метр сорок семь. Вот уже больше года без изменений. Как приговор.
Квартирка на семнадцатом. Офис на двадцать четвёртом. Лифт – четыре раза в день минимум. Метро – два раза. Автобус. Раздевалка в бассейне… К чёрту бассейн! Всё бессмысленно. Крепкая фигура, широкие плечи… Что толку! Если на тебя в гостях набросят пальто, как на вешалку, если вообще заметят!
«Я ничего больше не могу изменить в себе. Просто МОЙ мир должен был быть ниже…»
Так думал Чак в тот печальный дождливый вечер, сидя на диване, прижав колени руками к подбородку и, созерцая через огромный экран окна бисер дождевых капель, которые быстрыми паучками иногда сбегали по стеклу вниз…