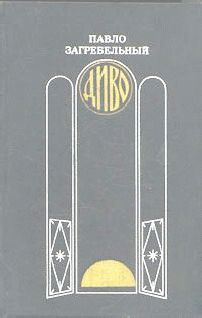Павел Загребельный - Южный комфорт
- Ты садись, - сказала она. - Садись посиди, а я поставлю чай. У меня здесь и кухня есть. Все маленькое, как мини-юбка, но все есть.
Только теперь Твердохлеб обратил внимание еще на одну особенность этой комнатки. Везде: на столике, на подоконнике, на подставках вдоль стен было множество радиоприемников, магнитофонов, проигрывателей, радиокомбайнов, и все какие-то неизвестные Твердохлебу системы, прекрасное оформление, наверное, высокая кондиция и еще более высокая цена. Не сдержавшись, он опять спросил, хотя снова должен был казниться после Наталкиного ответа.
- Это что - все твои премии? - спросил он.
- Ну да, все премии, - ответила она, но не сказала "мои", только слово "премии" произнесла с нажимом и метнула на Твердохлеба такой взгляд, что хоть проваливайся сквозь пол. Перекрытия нынче бетонные - не провалишься.
Твердохлеб опасливо прошелся возле радиокомбайнов, склонился над приемником на журнальном столике. Ленинградский. Первый советский переносной, стереофонический, высшего класса. Твердохлеб протянул руку, чтобы дотронуться до тумблеров, но испуганно отдернул ее. Страдал техническим кретинизмом - дальше молотка, ключа и зубила в технике не пошел. Когда Ольжич-Предславский надумал покупать для Мальвины машину и встал вопрос, кто ее будет водить, Твердохлеб отказался категорически. Мог водить только трамвай. Поскольку идет медленно и по рельсам. Правда, потом оказалось, что машину покупают не ездить, а для перепродажи втрое дороже, но это уже было потом, когда Мальвина вволю поиздевалась над его техническим кретинизмом.
Наталка, неслышно вскользнув в комнату, стала хлопотать с чаем.
- На маленьком столике, не возражаешь? - спросила она.
- Благодарю. Может, не стоит? Лишнее беспокойство для тебя.
- Какое там беспокойство? Ты с сахаром или как?
- Вообще без сахара. Утром с медом.
- У меня мед из села. У меня все из села, хотя сама, видишь, киевлянка. - Она засмеялась, наверное, вспомнив, как попыталась обмануть его, выдумывая басни о своем киевском происхождении. - Ну, садись. Ты же, наверное, в этих приемниках не очень, сколько бы ни разглядывал?
- Не очень, - сказал он, садясь в кресло, и только теперь заметил, что у Наталки заплаканные глаза.
- Ты плакала?
- Это с дождя.
- Нет, плакала.
- Ну, плакала! А тебе что?
- Может, я... Помог бы...
- Помог? - Она засмеялась горько. - Чем же ты поможешь? И кто поможет? Может, вон те? Включишь приемник - только и слышишь: ракеты, мегатонны, "першинги", "эмэксы"... Готовы мир уничтожить и не умеем воскресить дождевого червяка! А человека? Кто возвратит утраченного человека? Кто заменит и чем, и можно ли вообще заменить? Вон ты видел его портрет. Юрин портрет. Не говорила тебе ничего, потому что не хотела. Но ты увидел. Юры нет. Только фамилия у меня - вот и все. А как он не хотел умирать! Уже и руки похолодели, а сердце билось, билось, и он смотрел на меня, как будто говорил: не сдавайся, Наталка, не поддавайся! Тридцать четыре года - и умер.
- От чего он умер? - тихо спросил Твердохлеб.
- Белокровие. Я обошла всех профессоров, все не верила, не хотела верить. И все разводят руками. У человека выходят из строя какие-то регуляторы - и тогда это начинается. У каждого может начаться, но не у каждого портятся эти регуляторы. Где они, сколько их, как они там связаны между собой, от чего портятся, наука еще не установила. Поэтому люди умирают и еще долго будут умирать, а наука занята тем, как их убивать.
- Ты не совсем справедлива насчет науки.
- А что мне твоя справедливость? Ты посмотри на его лицо, на его глаза! Но не услышишь его голоса, не узнаешь, какие у него были руки, какой он был весь... А я? Дуреха, деревенская девчонка, провалившаяся на экзаменах в театральный. Очутилась на "Импульсе", сидела на подготовительных курсах, а в голове принцы, рыцари да разве еще танцы.
Когда Юра пришел на курсы читать какую-то лекцию, я ни лекции его не слушала, ни его не заметила. А что он мне? Невысокий, подстриженный, голос тихий, вежливый - все: "Будьте любезны! Прошу вас! Я вас слушаю!" Разве этим очаруешь восемнадцатилетнюю девушку, у которой в голове только ветер! А он меня заметил сразу. Увидел, какая я глупая, на каком небе летаю, и стал опускать меня на землю, и так упорно, что я возненавидела его, а он не отступал. На курсы - это он случайно. Раз пришел - и все. Но как-то сумел найти возможность, чтобы увидеть меня. На восемь лет старше меня, а не замечалось. Был женат, но разве я тогда могла понять? Лишь через год, когда уже влюбилась в Юру и когда он сказал, что разведется ради меня, я ужаснулась: а что скажет моя мама? Не я, а мама! К счастью, у него не было детей и что-то там разладилось, в их семье. Жена отпустила его легко, хотя как можно было отпускать такого мужа? Сколько в нем было силы, энергии, каким веселым был всегда, сколько друзей! А как все успевал! Ходил на секцию вольной борьбы, играл в теннис, волейбол, катался на коньках, плавал, ездил верхом. В радиотехнике, может, был гений, да разве только в ней! Не было вопроса, на который бы он не ответил, не было книги, которую не читал, приучил меня слушать не только джаз, но и Бетховена, читал мне поэтов... Нам тогда дали эту гостинку, и ночью, когда уже все спали, мы садились здесь у окна и тихонько пели: "Когда разлучаются двое..." и "Не пробуждай воспоминаний". Это он как бы предчувствовал страшный конец нашей любви. В тот первый год он писал мне письма, и в них - о любви. "Для твоей любви я слишком грешен. Просто я люблю тебя. Люблю... как радостно писать мне это слово, и становится так хорошо оттого, что люблю. Воистину самое прекрасное из всех слов, а еще более прекрасно оно, когда звучит музыкой из любимых уст..." Девушки говорили мне потом: "Не нужно было беречь эти письма, и он бы не умер..." Какие глупости!
Он работал над первым в нашей стране переносным стереоприемником. Вместе с ленинградцами. Тот, что на окне. Ноль десять стерео. Может, именно тогда и расстроилось что-то в его организме... Ибо человек не может того, что мог он. До поздней ночи - в лаборатории, нужно в командировку - он. Все бросает и летит. За три года он объездил сорок городов, полсотни заводов, и везде - к директору, к главному инженеру, и нужно непременно уговорить, чтоб изготовили какую-нибудь детальку, а деталька новая, вне плана, и никто не знает, как ее делать и нужно ли делать вообще. А затем в министерство, пробивать проект, пробивать средства, пробивать опытную партию... Даже при определении цены приемника не могли обойтись без него, хотя он не умел себе купить даже галстук... Как он доставал билеты на поезда и самолеты, в каких гостиницах спал, что ел - разве я знала? А он о себе - никогда. "Все идет, как запланировано, малышка. Продвигаемся вперед, малышка. Ни шагу назад, малышка!" И еще говорил: "Видишь, ясочка, как мы любим друг друга - мы даже надоесть не успеваем..." Гематологи продлили ему жизнь на пять месяцев. Это было чудо. Меня уже поздравляли... Но Юра стал догадываться о своей болезни, это я заметила по тому, что он стал еще более внимательным ко мне и еще добрее стала его улыбка. На похоронах я читала его любимый двадцать девятый сонет Шекспира. Читала только ему, чтобы слышал он, а больше никто...
Она смолкла, и они сидели некоторое время молча, потом Наталка засуетилась:
- Почему же ты не пьешь чай? Нужно согреться после этого страшного дождя.
- А мне ты тогда в магазине показалась такой легкой, - сказал Твердохлеб. - Только глянешь на тебя - и уже становится легче на сердце. Наверное, я все-таки глупый...
- В апреле будет три года, - сказала она. - В апреле, а теперь март... Он не любил месяцы с буквой "р". Может быть, предчувствовал?.. Три года... А мы были вместе семь...
Твердохлеб подумал, что Наталку он впервые увидел в июне. Месяц без "р". Еще подумал: девятнадцатилетней вышла замуж, семь лет, теперь три года... Сколько же ей? Двадцать девять? А он думал - девчонка. И пугался своей несерьезности... Для него сорокалетний рубеж казался страшным, как конец света, а для нее? Тридцать?
- Ты говоришь: легкая, - словно угадывая его мысли, заговорила Наталка. - А я то же самое подумала о тебе. Не в магазине. Там я не помню. Не обратила внимания. Только возмутилась, и все. А уже в цехе. Когда ты стоял и не мог слова вымолвить. Прокурор - и онемел! Ты был таким добрым, и такая легкость в тебе...
- Это от тебя. А я - тяжелый. Погружаюсь в землю. Все глубже и глубже. И никакая сила...
- Не говори так. Не нужно. Грех. Разве нет на свете человека, для которого бы ты сделал все, даже невозможное?
- Ты же хорошо знаешь, что есть.
- А коль так, то тебе воздается таким же добром. Добро не исчезает на свете. Никогда. Или ты не веришь в это?
- Если бы не верил - не жил бы.
Только теперь он понял Наталкино поведение за все время их странного знакомства, понял и оправдал. Ее - не себя.
- Прости меня, - произнес он тихо и жалостно. - Я ничего не знал... И надоедал тебе... приставал как смола... как...