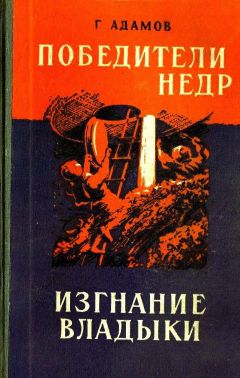Роберт Менассе - Изгнание из ада
— Довольно! — сказал раввин. — Через две недели Манассия представит мне реферат о противоречии в Книге Исход, глава двадцать четвертая, стих одиннадцатый и глава тридцать третья, стих двадцатый. Двух недель достаточно, чтобы прочитать двадцать строк и разъяснить, это будет…
— Полторы строки в день! — радостно сообщил Лукаш да Кошта, сын коммерсанта, наторевший лишь в чтении и счете.
— Две строки! Всего две строки на рабочий день! — сказал рабби и легонько стукнул его по затылку. — Ты опять забыл про субботу?
Манассия выдержал это ораторское испытание, причем вполне достойно, скорее хорошо, чем плохо.
Но спустя восемь лет он опубликовал толстую книгу под названием «Conciliador» («Миротворец»). Таков был его окончательный ответ, труд, который снимал и примирял разом все противоречия Священного Писания и в конечном счете сделал его более знаменитым, чем ученый Узиил, и непосредственно обеспечил ему куда большее признание, нежели то, каким пользовался его соперник Абоаб. Абоаб же будет кончиками пальцев, прямо-таки с отвращением, выверять сей труд сразу по выходе и вынесет уничтожающий вердикт: книга написана не на языке пророков, не на языке науки — бедолага писал на языке объективного врага, на языке закабаливших мир католиков-иберов. Он не понял, что Манассия ни о том, ни о другом даже не помышлял, он просто решил написать свой труд на языке, каким сам владел лучше всего и какой понимала его община.
Впрочем, после ученого ораторского упражнения Манассии и холодной критики Абоаба оба — Абоаб и Манассия — попали в шестой класс, под прямую опеку великого Исаака Узиила.
Он учился как одержимый. Изучал древнееврейский, чтобы в ешиве при штудировании Священной Книги всегда поспевать за указкой рабби, двигающейся по строчкам, а одновременно пытался совершенствоваться в латыни, чтобы в комментариях и ученых спорах по поводу священного текста быть или хотя бы казаться на высоте, и с неменьшим рвением учил голландский, чтобы уцелеть в этом городе, в его присутствиях и лавках. Квартал, где он жил, заставлял его волей-неволей развивать умение в любую минуту переключаться с португальского на испанский и наоборот, буквально посреди фразы, чуть не посреди слова.
Синий! Красный! Зеленый! Словно по очереди размеренно вытаскивая из шкатулки разноцветные платки, он демонстрировал все эти языки, со странным взглядом, застывшим в глубине глазниц, будто смотрел он сквозь маску. Странно выглядел и длинный шрам на щеке: у него пробивалась борода, но поверх шрама она не росла, отчего это место казалось «недоделанным» — маску там будто согнули и склеили!
Эсфирь говорила, что он напоминает ей дрессированную обезьянку, с которой много лет назад какой-то фигляр выступал перед изумленной толпой на главной площади Комесуша. Под наигрыш лютни обезьянка ритмично поднимала ноги и покачивала головой, под быструю музыку быстро, под медленную — медленно. Фигляр стремительно переходил от одной песни к другой, обезьянка не отставала. А он еще и выкрикивал: Синий! Красный! Зеленый! — и обезьянка выдергивала из шкатулки платок нужного цвета, качая головой теперь уже в ритме аплодисментов.
Мане с Эсфирью после гадали: может, это и не обезьянка вовсе, не зверек, а дикарь. «В Новом Свете, говорят, живут дикари, волосатые, как звери!» Или, может, ребенок, зашитый в звериную шкуру и вынужденный изображать обезьянку.
Зверек вызывал у публики удивление, восторг, энтузиазм, но и насмешки и злорадство: ох и забавная же тварь! Но тот, кто смотрел обезьянке в глаза, невольно воспринимал все сразу как подделку — видел в ней скорее ребенка в старой, ветхой шубейке.
«А если это все-таки была обезьянка?» (Мане.)
«Будь это обезьянка, — сказала Эсфирь, — она бы не выглядела в когтях фигляра так по-человечески! Или же стала бы совсем человеком, а тогда дралась бы за то, чтобы сам этот дядька, а не она таскал из шкатулки платочки и размахивал ими!»
Манассия хорошо это помнил. К сожалению. Шкурка у обезьянки местами облысела, облезла, но он прикрывал шрам на щеке ладонью не по этой причине. В последнее время так все чаще бывало, когда он размышлял, когда за учебой подпирал рукой усталую голову, порой постукивал пальцами по скуле, чтобы не задремать, подстегнуть себя, запоминал наизусть свой урок, а при этом почесывал лысое место на лице, поросшем пушком. Он размышлял. Есть ли иной путь? Он такого не видел. А пути назад тем паче: назад, на площадь Комесуша, к детству, нет туда пути, к этой невинности, какой они обладали, еще в ту пору, среди обезьянкиной публики.
Он учился, учился, учился, а когда уставал и падал духом, когда у него возникало чувство, что он готов опуститься, просто лечь наземь и выдохнуть из себя жизнь, всю, до конца, лежать, угасать — тогда его снова поднимали, будоражили, подхлестывали крики отца; доносившиеся из родительской спальни крики подстегивали его прямо как удары кнута. Почти через равные промежутки времени крики отца пронзали ночь. Отец дыбился на кровати, но не метался, не кидался из стороны в сторону, казалось, он связан, дергается в своих незримых путах и кричит.
Подобные крики в ночи были самым обычным делом. Столь же обычным в ночи, как днем визг станков, на которых гранили алмазы. Обыкновенный городской шум, каких много. Подростки, что целовались ночью на углу тесных улочек, не обращали внимания, когда из окна над головой раздавался крик. Их это не касалось. Ночной сторож и бровью не вел, когда, регулярно посвистывая, обходил улицы квартала и вдруг слышал как бы в ответ панический вопль, крик о помощи, душераздирающий жалобный стон. Здесь ни на кого не нападали, никого не грабили, не избивали — здесь спали те, кто все это уже оставил позади. И многие из них кричали во сне.
Мать садилась в постели, гладила отца по голове, тихонько приговаривала, успокаивая, она словно и не просыпалась, делала все так же инстинктивно, как во сне, замерзнув, натягивают одеяло до подбородка. Поначалу дети еще прибегали в родительскую спальню, Эсфирь хватала отца за плечи, встряхивала: «Проснитесь, сеньор!» Вытирала ему потный лоб, а он кричал и хрипел.
Мать с ее успокоительным бормотанием нараспев, Эсфирь — всегда в движении, за нею — Манассия, недвижный, прижимающий ладонь к щеке, глядящий сквозь маску.
«Что с вами? Проснитесь, сеньор! Все хорошо!»
Когда же отец приходил в себя, открывал глаза, он сперва затравленно обводил взглядом комнату, лица домашних и, сообразив наконец, где находится, устало махал рукой: идите спать, все в порядке! Вначале, в первые разы, он еще говорил — нет, не говорил, хрипло бормотал, задыхаясь, словно после сумасшедшего бега, бессмысленного, бестолкового, — хрипло бормотал, что хочет забыть, забыть! Снова и снова: забыть! Эти картины, какие он видел, эту боль — все забыть!
Иосиф бен-Израиль состоял в обществе, которое поставило себе целью хранить память о жертвах Священного трибунала и свидетельствовать о преступлениях, совершенных во имя христианского Бога. В этом обществе они реконструировали имена убитых, заносили их в списки, чтобы имена эти, предназначенные забвению, сохранились. Члены общества регулярно приходили в ешиву, рассказывали и свидетельствовали о пережитом, дабы следующие поколения помнили историю родителей и предков, помнили об их борьбе. Они устраивали дни памяти, приводили музыкантов, игравших музыку анусим, принудительно крещенных, оплачивали публикацию стихов, песен и рассказов об их жизни, гонениях, смерти.
Манассия без всякого удовольствия слушал отца, когда тот в школе или на мемориальных собраниях свидетельствовал о гонениях и изгнании. Он считал, что отец лгал, да так, что дух захватывало, одно преувеличивал, другое умалчивал или упрощал, рьяно, прямо-таки бесстыдно приукрашивал, как считал Манассия, приукрашивал все банальности, для которых находил слова, а там, где слов недоставало или в памяти просто зияли провалы, делал драматические паузы, скудные аллюзии уснащал трагической жестикуляцией и так театрально изображал эмоции, что в самом деле заливался слезами, глядя на ошеломленные лица слушателей.
Однажды после такого собрания он спросил у отца, почему тот лгал.
«Как ты сказал?»
«Почему ты лгал? История бегства совсем иная, я же помню, я же был при этом. А то, что ты рассказывал… Зачем ты рассказывал именно так?»
«Разве иначе мне бы поверили?»— спросил отец все еще с мокрыми от слез глазами.
Общество это изначально носило название Общество памяти безвременно почивших, но вскоре послышались возражения: мол, жертвы инквизиции не просто «почили», а были убиты. И одно слово в названии соответственно изменили, правда, увы, лишь одно слово, отчего теперь в чиновных бумагах название гласило: Общество памяти безвременно убиенных. После этого ни у кого не было ни охоты, ни сил добиваться новой корректировки названия.