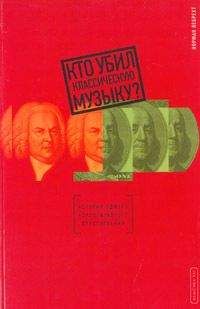Песня имен - Лебрехт Норман
— Без вас я не могу ему это разрешить, ведь вы столько для него сделали.
— Фред, а вы что скажете? — осведомляюсь.
— Мальчик растерян, — отвечает Фред. — Его бесит, что у мамы теперь есть своя, отдельная жизнь. Чувствует себя обиженным, с девушками, насколько мы знаем, не встречается. Возможно, ему было бы полезно переключиться на какое-то другое занятие, познакомиться с людьми иного круга. К музыке он всегда сможет потом вернуться. База заложена основательная.
— Превосходно, — подытоживаю я. — Значит, договорились?
— Спасибо, мистер Симмондс, — тихо говорит Элинор Стемп. — Благодарю вас за понимание.
— Это все? — осведомляюсь я, подавая знак, чтобы принесли счет.
— Мы с миссис Стемп надеялись, что вы сумеете пролить свет на небольшую загадку из прошлого Питера, — Фред ни с того ни с сего заговорил о своей невесте в официальном тоне.
— Слушаю вас.
— Когда вы присудили ему приз, — напоминает Фред, — вы сказали, что в его игре есть нечто особенное, чего никто из нас не уловил. Потом вы переговорили с ним с глазу на глаз, и он направил вас к одному типу в Олдбридже, еврею, у которого до этого неофициально брал уроки. Что вам известно об этом человеке? Миссис Стемп боится, что он дурно повлиял на Питера и каким-то образом вызвал у него отвращение к музыке.
А, так вот ради чего она явилась. Элинор требовалось от меня не благословение на то, чтобы Питер бросил музыку, а секрет, который ей он никогда не откроет, но который — вдруг? — мог знать я. Ловко, однако. Интересно, много ли ей удалось вытянуть из своего прыщавого паршивца, — может, она просто решила, что общение с теми кошмарными, нелюдимыми, бородатыми евреями плохо отразилось на ее мальчике. Мне живо припомнилось ее отвращение к «черношляпникам».
— Мне особо нечего добавить к тому, что я рассказал вам по телефону, — пожимаю плечами с притворным раздражением. — Когда я впервые услышал Питера, я обнаружил в его игре отголоски такой манеры исполнения, какой я не слышал с самого детства, свободу самовыражения, которая, мне показалось, может вылиться в нечто значительное, содержательное. Мне захотелось узнать, откуда он ее позаимствовал, такую подлинную, без современных вывихов. Он направил меня к одному милому старичку-раввину из Олдбриджа, у которого в свободное от разноски газет время брал целебные уроки. Я побывал у этого раввина и ничего ужасного не обнаружил. Он играл по старинке, как нынче уже не играют, и мы славно поностальгировали. Полагаю, его, к сожалению, скорее всего, уже нет в живых.
— Вы не ошиблись, — фыркает Элинор. — Вскоре после победы на конкурсе Питер пытался навестить этого человека, а я его выследила. Он вернулся совершенно опрокинутый, отказался репетировать, ужинать тоже отказался. Он пришел, позвонил в дверь, а там уже другие люди. Ни о каком раввине, ни о его дочери (кажется, Питер по ней сохнул), они слыхом не слыхивали. Питер их спрашивает, а они ноль эмоций, «мы английский не говорить». Оказывается, этот человек, раввин Каценберг, развозил в своем фургоне фрукты-овощи да и свалился в То. Во всех газетах про это писали. Я объяснила Питеру, что этот человек умер, а он как взъерепенится. Кричал, что это был святой и вообще гениальный музыкант. Я ему: «Не глупи: это примитивные люди, словно только что из Средних веков. Что они, со своими длинными бородами и дремучими париками, могут знать о Бахе и Бетховене?» Питер меня не слушал. Он совершенно скис, чуть не завалил экзамены. Потом Фредерик ко мне переехал. У Питера изменилась манера игры, абсолютно выхолостилась. Такое ощущение, что он теперь совсем не старается, растерял все честолюбие. Я не музыкант, но даже мне заметно: из моего мальчика что-то ушло, этот покойный раввин словно забрал его душу.
— Чертовщина какая-то…
— Да уж, мистер Симмондс. Я с вашей подачи почитала романы Исаака Башевиса Зингера. Вот уж где сплошная чертовщина, мужчины и женщины одержимы диббуками — так их называют? Эти люди опасны. Они погрязли в оккультизме. Они обладают сверхъестественной властью и заманивают к себе невинных людей.
— «Эти люди»?
— Вы знаете, о ком я говорю.
Над разоренным столом повисает нечистоплотная тишина. Я слишком хорошо знаю, о ком она говорит, — видимо, и меня она тоже причисляет к общей массе ловцов душ. Не подкатывал ли я тайком к ее драгоценному сыночку? Может, я исчадие ада? Разве не проник я в ее давно позаброшенную святая святых? Божечки, да ей просто повезло, что я, когда ее наискось там, наверху, распялил на ложе палмерстонского люкса, взял не ее христианскую душу, а всего-навсего женскую добродетель.
Сквозь полуопущенные веки наблюдаю за ней, наслаждаясь ее страхами — совершенно первобытными по сравнению с многогранной интеллектуальной жизнью столь презираемых ею «дикарей». Я ей больше ничего не должен, вижу ее в последний раз. Они с ее сыночком были для меня просто начальной ступенькой на моем пути к правде. Я от них оттолкнулся и двинулся себе дальше. Впрочем, мы же цивилизованные люди. Без них мне до цели было бы не добраться, так что, помятуя этические принципы отца — никого без причины не обижать, — решаю утихомирить ее одиозные предрассудки искусной инъекцией словесного брома.
— Насколько мне известно, моя дорогая, — цежу я, — старый раввин Каценберг в молодости был учеником прославленного профессора Флеша, подавал надежды. Гибель его родных в фашистском концентрационном лагере подтолкнула его, как, уверен, Питер вам рассказывал, к духовным исканиям. Я надеялся, что смогу уговорить его стать Питеру наставником. К сожалению, вмешался несчастный случай, а замену я так найти и не смог. Останься раввин Каценберг в живых и продолжай он обучать Питера, тот, возможно, сейчас бы уверенно шел к блестящей карьере.
— Я хоть и не знал о его прошлом, — вставляет Фред, — довольно сильно расстроился, когда прочел о его смерти.
— На этом предлагаю закруглиться, — подытоживаю я. — Рад был вас обоих повидать, надеюсь, что роды пройдут благополучно. Питеру от меня наилучшие пожелания. Боже правый, как время-то бежит!
До поезда у меня еще час. Прогулка бодрым шагом пойдет мне на пользу. Официанты куда-то запропастились, так что беру счет и несу оплачивать на стойку к мистеру Вудворду.
— Он здесь больше не работает, — отвечает молодая женщина, вся такая аккуратная, на синем лацкане — бейдж с именем. — Вуди в прошлом году неожиданно попал под сокращение — простите, ушел на покой. Чем вам помочь? Я новый управляющий, Сью Саммерфилд. Видите, мы тут прихорашиваемся в честь миллениума.
Мисс Саммерфилд благосклонно выслушивает мои похвалы ее нововведениям. Сверяется со списком почтовой рассылки и находит меня в числе постоянных клиентов. Объясняю, что Вудворд выделил мне в сейфовом помещении ячейку, чтобы не возить вещи туда-сюда из Лондона.
— Давайте лучше пойдем и проверим, — говорит она. — Как удачно вы сегодня заехали. Два месяца назад я всех клиентов предупредила, чтобы они забрали свое имущество до конца этой недели. У нас вторая стадия ремонта, строители скоро начнут переделывать цокольный этаж: там будут оздоровительный клуб и бассейн.
В последний раз спускаюсь в викторианское чрево некогда великого заведения. Над головой тянутся громкозвучные трубы. Стены выложены плиткой мрачных коричневых и желтых тонов. По сторонам тянутся кладовые, кухни, уборные, посудомойные, для сноса отгороженные досками. Коридор уже близок к завершению, когда любезная Сью Саммерфилд извлекает главный ключ-отмычку и отпирает мою ячейку.
— Если я вам понадоблюсь, я буду на стойке администрации, — сообщает она. — И не запирайте, не надо. В понедельник мы все здесь сломаем.
Пачка потрепанных фиолетовых папок — «Отпечатано в Британской империи» — вот и все, что осталось от прежних моих изданий. Штук двадцать, вряд ли стоит тащить их с собой. Больше в сумраке ничего не разобрать, разве что уши улавливают поблизости чей-то торопливый топоток. Если в Англии рядом река, жди крыс. С опаской, как бы не цапнули за руку, шарю по дну огромной ячейки. В последний раз укол против столбняка мне делали много лет тому назад. На глубине около метра пальцы нащупывают кожаный футляр, закругленный с двух сторон и полый внутри. Хватаюсь за какую-то лямку и, дрожа от предвкушения, тяну. В тусклом свете толком не разглядеть, но, судя по старой коже, это не одна из моих китайских ширпотребных скрипок. Сразу чувствуется: это подлинная вещь, обретенная утрата, сполна выплаченный долг.