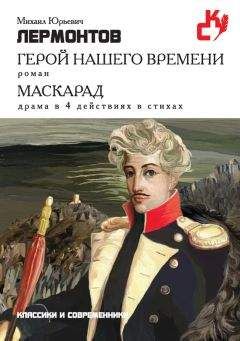Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
Закрыв с трудом первую створку ворот, а затем кое-как и вторую, милиционеры обезопасили нас, но и, конечно, отрезали. Человек до ста, и я с ними.
— Ничего страшного: пройдете дворами! — кричали милиционеры. — Идите домой!..
Милиция материла нас — мы их. Едва опасность чугунных ворот миновала, изоляция стала обидна: какого черта мы тут, а не там?! Гражданин с красивым российским флагом возмущался: он пришел на демонстрацию демократов, а не на встречу (в проходном дворе) с работниками милиции. «Откройте!» — требовал он. И нервно подергивал флагом.
— Да как теперь их откроешь?
— Обязаны открыть!
— Вот ты сам и открой! — огрызнулся молодой милиционер.
Ворота с решеткой (неважно, открытые или нет) уже намертво придавило проходящей толпой. Ни шанса. Мы поостыли. Видеть в прикрытых воротах происк милиции, не допускавшей часть людской массы на демонстрацию, было глупо. (Хотя поутру такие случаи отмечались.)
Гражданин с флагом возмущался, но уже вяло.
И тут я ее увидел: крупная стареющая женщина. На голове — перемежающиеся кольца черных и контрастно седых прядей.
Леся Дмитриевна Воинова. Не узнал бы ее, не сведи нас здесь лицом к лицу. (Она тем более меня забыла.) Я назвал ее по имени-отчеству.
— Добрый день.
Она вгляделась.
— Простите... Никак вас не вспомню.
После стольких-то лет это было не удивительно. Мы (напомнил я) работали когда-то вместе. Вы, скорее всего, меня не знали, но зато я вас знал. Да и кто же в стенах института (я назвал тот НИИ) — кто же там не знал Лесю Дмитриевну Воинову! — я произнес с некоторой торжественностью, мол, запоминаются же нам на жизненном пути яркие люди.
Ей понравилось, как я сказал. Было ясно, что она и точно ничего не помнит. Вот и хорошо.
Оказавшиеся за чугунной решеткой, мы смотрели теперь из подворотни на продолжающийся мощный ход толпы: видели, как валит и валит по ту сторону высоких ворот (всех не отрежете!) демократический наш люд.
— Много сегодня народу.
— Очень!.. — Леся Дмитриевна уже явно оживилась, улыбалась: лицо постаревшей гордячки.
Ей было приятно (как я сообразил после) не только оттого, что кто-то вспомнил ее былые дни (и, стало быть, ее былую красоту), но еще и оттого, что ее узнали прямо на улице.
А я в эти минуты вдруг приметил возле самой решетки молодого милиционера — он был весь поглощен одним из интереснейших, надо полагать, дел в своей жизни. От него нельзя было глаз оторвать.
— Но мы с вами, — говорила Леся Дмитриевна, — сегодня уже ничего не продемонстрируем.
— Похоже, что так!
Молодой милиционер, стоявший у ворот, занимался (сам для себя, бесцельно) вот чем: он тыкал дубинкой меж прутьями решетки. Нет, не в воздух. Он бил тычками в проходящих людей толпы. Людей (оживленных, энергично кричащих, с транспарантами в руках) проносило, протаскивало мимо нас, мимо решетки, а он их как бы метил. Мент лет тридцати. Чуть моложе. Наносил удар меж прутьев. А люди толпы на бегу время от времени подставляли ему свои спины. (Выражение его лица я еще не увидел.) Удар был тычковым движением снизу. Одному. Другому. Третьему... Мент стоял затененный столбом. (Но дубинка-то его мелькала!) Я, занятый Лесей Дмитриевной, только вбирал эти беззвучно-тупые тычки в себя, перемалчивал, а внутри каменело.
Почувствовав во мне перемену (какую именно, она не знала), ЛД взволновалась и спросила:
— Вы торопитесь?.. не очень?
Она тронула, еще и попридержала меня за рукав:
— Нет-нет. Не оставляйте меня, мне не сладить сегодня с толчеей... Мы вместе? — и вопросительно-встревоженно смотрела. Взгляд когда-то красивой женщины, которая не знает, позволительно ли ей вот так улыбаться спустя столько лет. (Ей было позволительно. Я так подумал.)
Мент тыкать дубинкой перестал; возможно, до его лычек дошли мои нервозные флюиды. Но, возможно, его просто оторвали (от столь притягательно незащищенных спин и почек), его прервали: появился лейтенантик и закричал, мол, не фига тут стоять, передислоцируйтесь, да побыстрее, к Манежу!.. Мент опустил дубинку и повернулся (наконец-то) к нам лицом: на юном лице застыло счастье, улыбка длящейся девственной радости.
Милиционеры, за ними и все мы двинулись вверх по узкой трубе проходного двора. Ветерок дул чувствительно. Я видел, что Леся Дмитриевна зябнет, и, поколебавшись, взял ее под руку. Она поблагодарила. Так мы и шли. После она скажет, что сразу же заметила, что я одет просто, а то и бедно. Из тех, кто и внешне сам себе соответствует. (Претерпел за брежневские десятилетия и вполне, мол, шел за опустившегося интеллектуала, отчасти жертву.)
По дороге к метро Леся Дмитриевна рассказала, что одинока и что все в жизни потеряла. Красоту с возрастом. А социальное положение — с переменами.
То есть ЛД была из тех, кто терял и падал сейчас, при демократах. Ага! — подумал я. Меня вдруг взволновало. «Вы меня слушаете?» — спросила она. — «Конечно» — Я на миг затаился, ощущая свой подпольный интерес, медленно и помимовольно (злорадно) выползавший в минуту ее откровения из моих подземных недр. Я не ограничился тем, что проводил ее до метро — я поехал до ее дома. Мы пили чай. Мы послушали музыку. Мы сошлись. Это далось нетрудно, она все время хотела говорить мне (хотя бы кому-то) о своих бедах. Я и заночевал у нее. Не проверил в тот вечер сторожимые в общаге две «мои» квартиры (можно сказать, пропустил дежурство). Так после долгого поиска грибов перед глазами спящего все мелькают и мелькают у пней бурые и желтые опавшие листья. Той ночью среди сна мне являлись лица толпы, флаги в полоску и шаркающие тысячи ног. И мент. Он тоже нет-нет возникал с дубинкой. Лет двадцати пяти. (Я оживил его улыбчивое молодое лицо.) Он бил незаметно, но ведь не прячась. Никакого, скажем, садизма или ребяческого озорства (мол, тычу вас дубинкой через решетку, а вам меня не достать) — ничего такого не было. Никакой психологии. Просто бил. Улыбался.
Раза три ночью я просыпался, ощущая рядом нависающее крупное тело, дышащее женским теплом. Леся лежала (вот ведь образ) протянувшимся горным хребтом. Случайный расклад тех дней: от любви к любви. Пойдя на демонстрацию по телевизионному призыву худенькой Вероники (а также Дворикова), я встретил там Лесю Дмитриевну.
Едва я проснулся, сработал мой нюх на кв метры, и, как ни удерживала ЛД меня на кухне возле чашечек кофе, я прошелся по квартире и увидел разор. На стенах бросались в глаза два высветленных прямоугольных пятна от проданных картин. Также и от проданной мебели (что получше) — пустоты в углах. Там и тут узнавалась эта легкая пустота: даже в серванте — от красовавшейся там прежде, вероятно, дорогой посуды. ЛД схватила меня за рукав и потянула назад, на кухню. Она не спохватилась сказать: «Тяжелая полоса жизни» — или: «Сейчас тяжелые времена...» — нет, она только тянула за рукав, уводила от пустот поскорее, но еще и опускала, прятала глаза, мол, отвлекся на пустяки, на мебель, и, слава богу, не увидит, не углядит главную ее пустоту и нынешнюю утрату — в лице, в душе. Моя, подумал я тотчас. Вариант плачущей в метро. Я даже попытался представить ее тихо сидящей в углу вагона. Аура падения: угол.