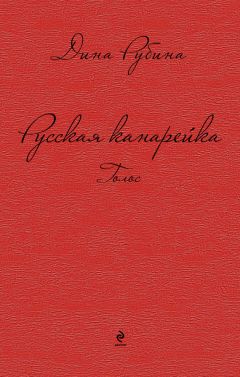Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Натан не сразу возник, через год.
Дали на травке погулять, думал позже Леон с горькой усмешкой.
Он уже стал привыкать к Парижу: к мелким белым плиткам станций его старого метрополитена, к желтоватой щели рассвета между штор, к изящному узору чугунных решеток, что «по колено» высоким окнам старых муниципальных домов на рю де Риволи; к маленькой забегаловке на площади Бастилии, где готовили блинчики из гречневой муки и подавали яблочный сидр и куда он непременно заходил после репетиций и спектаклей. Его рука привыкла отпирать ключом калитку в тяжелых, деревянных, утыканных шляпками стародавних гвоздей воротах бывшей конюшни, а ноги привыкли взбегать по ступеням кружевной кованой лестницы на третий этаж. Он привык к Исадоре, консьержке-португалке в их доме: она подрабатывала уборкой и раз в неделю прибиралась и у него в квартире.
Он уже свел знакомство с Кнопкой Лю — крошечным эфиопом, антикваром, бывшим пиратом, приговоренным к пожизненному и «вышке» чуть ли не всеми морскими державами. «Король броканта», неутомимый барыга Кнопка Лю порой искал с Леоном встречи лишь ради того, чтобы поговорить по-русски, ибо в свое время закончил филфак МГУ.
И, конечно же, — заядлый барахольщик, «больной на голову!» — в свободные от репетиций и концертов дни Леон пристрастился к парижским «брокантам» и «вид-гренье» — в Монтрёе, у Ворот Клиньянкур, в Рюэе и даже у Сен-Жерменского дворца, — где за год успел приобрести: фонарь — из тех, что в старину вешали на дышло кареты; дуэльный пистолет «лепаж» с надписью на граненом стволе «Оружейник Короля и Герцога Орлеанского»; литую чашу для причастия, которая звенела, как ксилофон, и папиросную машинку со странным названием «moscovitе».
Экспонаты для будущего Музея Времени подбирались медленно и со вкусом.
Он привык и к своему аккомпаниатору Роберту Берману.
Сушеная треска лет семидесяти пяти, тот был невозмутим и непристойно брезглив: после дружеского рукопожатия доставал салфетку и, даже не стесняясь, вытирал руки прямо на глазах у смущенного коллеги.
На первой же репетиции Леон был ошеломлен: Роберт играл от сих и до сих, оборвал работу на полуфразе, встал, закрыл ноты, опустил крышку фортепиано и хладнокровно проговорил:
— Итак, до завтра.
Кивнул на прощание и ушел.
Леон пригласил Филиппа на ужин.
— Слушай, а вот этот наш Роберт Берман, — спросил осторожно, когда уже принесли десерт, — превосходный аккомпаниатор и милейший человек…
Филипп расхохотался:
— Что, вытирал руки гигиенической салфеткой после твоей грязной лапы?
Леон сдержанно возразил:
— Боюсь, он вытирал руки после моей грязной еврейской лапы. Он что, антисемит?
— Вполне возможно. Как и некоторые евреи. Не обращай внимания. После того, как его мама-немка в начале войны нашила четырехлетнему сыну желтую звезду на курточку и самолично отправила его в Терезин, у него несколько испортился характер.
— Как это — звезду? Что за бред! Почему?!
— Потому что отец его был евреем.
— Но… господи боже святый!.. — Леон уронил руки на скатерть. — Она что — чокнулась?
— Нет, и Роберт ее понимает и полностью оправдывает: это следовало сделать, иначе все равно донесли бы соседи. И Роберт выжил, потому что все-таки был наполовину немцем — видимо, таких боши приберегали на закуску. Но, сам понимаешь, не спешит дружески поделиться за чаем, что пережил в концлагере и откуда у него эта странная брезгливость. Ну, что ты вытаращился? Доедай свой мусс. Не понимаю, как человек может быть так привязан к вкусу вульгарной ванили!
Леон медленно вернулся к десерту.
— И с мамочкой его всю жизнь связывали нежнейшие отношения, — благостно добавил Филипп.
— А с отцом?
— С отцом тем более, потому что он благополучно сгинул в крематории того же культурного заведения в первый же месяц… Тебя устраивает расписание ваших встреч?
— М-да… вполне.
— Мне кажется, я все учел. Берман — профессионал в самом полном смысле этого слова.
— М-м-угу…
— Ну, и отлично. Доедай, и я хотел бы обсудить условия нашего контракта с испанцами. Я выбил из них пять тысяч, ты можешь мною гордиться. Да, вот еще что: я заплачу за этот ужин. Если ты будешь угощать всех, к кому у тебя есть вопросы, ты скоро вылетишь в трубу.
* * *Натан позвонил в начале марта.
Сиротская парижская весна струилась дождями, изредка извлекая голубое зеркальце из-под подола грязноватых туч.
Вначале Леон даже обрадовался: родной голос в трубке, возможность передать Владке тряпочки со своим человеком. (Время от времени он подкупал для нее что-нибудь из серии недорогой парижский шик.) Ну и вообще, он тосковал по Иерусалиму.
Спросил:
— Ты один или с Магдой?
И Натан легко ответил: один, один, и буквально на пару дней, по личному делу.
И что совсем уже Леона расслабило и успокоило, — Натан напросился в гости. Ну, в самом деле, что нам опять сидеть в забегаловке, за казенной скатертью, как птички на заборе! Хочу увидеть, как ты устроился, Магде рассказать. Она умирает от любопытства.
Явился он не один, а с неким Джерри, шатеном среднего возраста и среднетрамвайной, сказала бы Владка, внешности, в котором Леон — по некоторым повадкам, по походке, по тому, как тот придержал дверь и, прежде чем захлопнуть, бросил взгляд на лестничную площадку, — опознал нашего человека. Мой дальний родственник и приятель, представил его Натан. Ай, бросьте! — как говорили в Одессе. Никаким тот не был ни Джерри, ни родственником, ни, разумеется, приятелем — слишком для этого самого «приятельства» молод и слишком предупредителен.
И Леон расстроился, даже напрягся; мельком подумалось: а как иначе могло быть? Неужто, идиот этакий, ты тешил себя иллюзией полной от них свободы?
А ведь как на радостях расстарался: приготовил лососину в щавелевом соусе, отварной картофель, на закуску — горячий козий сыр в салате. По средам и субботам в их районе по трем ближайшим улицам разворачивался продуктовый рынок. К тому времени — то ли Стешины гены проснулись, то ли пример Филиппа возымел действие — Леон все чаще приступал к духовке на своей кухне, особенно в свободные от работы дни.
Приятель и родственник довольно скоро их покинул, и часа два они с Натаном просидели на крошечной кухне, тепло и оживленно болтая о чем угодно: о парижских ресторанах, о недавней забастовке рабочих сцены, из-за которой «Лючию де Ламермур» пришлось исполнять в концертном варианте (совсем обнаглели эти профсоюзы!), о нравах певческой братии в «Опера Бастий», о репертуаре другой, старой «Опера Гарнье», где сегодня поют веселые толстые итальянцы да истеричные румыны… И склонившись над столом, почему-то понизив голос, Натан спросил: