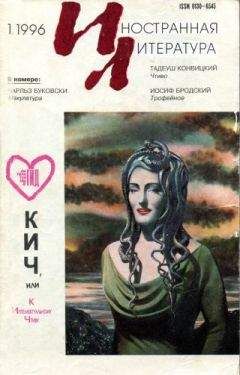Элис Манро (Мунро) - Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет (сборник)
Однажды это было в аэропорту, в толпе, она была в саронге и соломенной шляпе, украшенной цветами. Загорелая и веселая, на вид богатая, окруженная друзьями. А другой раз она была на церковной паперти среди женщин, ожидающих выхода свадебной процессии. На ней была спортивная вельветовая куртка, и она не выглядела ни преуспевающей, ни здоровой. А еще был раз, когда на перекрестке ее остановил сигнал светофора, с ней был выводок детишек-дошколят, которых она вела куда-то в бассейн или в парк. День был жаркий, и ее толстое стареющее тело было откровенно выставлено напоказ в цветастых шортах и футболке с каким-то лозунгом.
А самая недавняя и самая странная наша с ней встреча произошла в супермаркете городка Твин-Фолз в штате Айдахо. Купив кое-какие припасы для пикника, я зашла за угол, смотрю – старуха облокотилась на тележку для покупок и стоит, как будто ждет меня. Маленькая такая, вся в морщинах, с кривеньким ртом и нездорового цвета буроватой кожей. Желто-пегие волосы дыбом и лиловые штаны, натянутые под самую грудь и оттопыренные торчащим вперед животиком, – из тех старух, которые, будучи тощими, тем не менее утрачивают с возрастом талию напрочь. Такие штаны если где и продают, то разве что на барахолке, как и шерстяной жакет – веселенькой расцветки, но севший и свалявшийся, застегнутый на груди, которая была у нее не больше, чем у десятилетней девочки.
Ее тележка была пуста. При ней не было даже сумочки.
Однако, в отличие от тех, прежде встреченных мною женщин, эта, похоже, знала, что она Красуля. Она улыбнулась мне с выражением такого радостного узнавания и такого стремления быть узнанной в ответ, что можно было подумать, она ждала этого, как ждут великое благо или обещанный момент, когда – раз в тысячу дней – тебя выпускают из мрака на свет божий.
А что же я? Я растянула рот в равнодушно-вежливой гримасе, как перед чокнутой незнакомкой, и продолжила свое движение к кассам.
Потом, на парковочной площадке, я извинилась перед мужем, сказав, что кое-что забыла, и поспешила назад в магазин. Ходила туда и сюда по проходам, искала. Но даже за это короткое время старуха успела куда-то деться. Может быть, вышла сразу за мной; может, движется теперь по улицам Твин-Фолза. Пешком или в машине, которой управляет какой-нибудь добрый родственник или сосед. А может, и сама за рулем. Был еще и такой крошечный шанс, что она все еще в магазине и мы просто ходим по разным рядам, не замечая друг дружки. Я ходила то в одну сторону, то в другую, дрожа в ледяном климате летнего супермаркета и заглядывая людям в глаза, чем, вероятно, пугала их, потому что в моем взгляде читалась молчаливая мольба помочь, сказать, где мне найти Красулю.
Пока наконец я не пришла в чувство и не убедила себя, что это невозможно и, кто бы ни была та старуха – Красуля или не Красуля, – она меня давно уж забыла.
Мишка косолапый гору перелез
Фиона жила с родителями в городе, где они с Грантом ходили в университет. Дом у ее родителей был большой, с окнами в виде эркеров, Грант находил его одновременно шикарным и запущенным: на полу вечно сбитые ковры с загнувшимися уголками, на полировке стола въевшиеся круги от чашек. Ее мать была из Исландии – мощная женщина с копной седых волос и возмущенным разумом, кипевшим крайними, демонстративно левыми взглядами. А отец был каким-то важным кардиологом, глубоко чтимым в клинике и счастливо подобострастным дома, где всякие странные речи слушал с покорной и рассеянной улыбкой. Эти речи произносили самые разные люди – и богатые, и с виду довольно-таки обтерханные, они приходили и уходили, совещались и спорили, кое-кто даже с иностранным акцентом. У Фионы был собственный маленький автомобильчик и куча кашемировых свитеров, но в студенческую общину ее не принимали – возможно, как раз по причине того кипения, что бурлило у нее дома.
А ей все с гуся вода. К любым организациям, членству в женских клубах, землячествам и прочим подобным вещам она относилась с насмешкой, равно как и к политике, хотя любила поставить на проигрыватель «Четверых мятежных генералов» и врубить пластинку на полную громкость, особенно если в доме гость, которого она вознамерилась вывести из себя. («Четверых мятежных генералов – повесим! Mamita mia, повесим на первом суку!») Иногда с той же целью применяла «Интернационал». За нею тогда увивался какой-то кучерявый, всегда насупленный и мрачный иностранец (по ее словам, будто бы вестгот), были и еще два или три ухажера – вполне респектабельные, стеснительные молодые интерны. Она над ними посмеивалась, как, впрочем, и над Грантом. С издевкой повторяла его деревенские выраженьица. Так что, когда холодным солнечным днем на пляже курорта Порт-Стэнли она сделала ему предложение, он подумал, что это шутка. Им в лица больно хлестал песок, у ног волны с громом ворочали и тасовали гальку.
– Тебе не кажется, что было бы забавно… – выкрикнула Фиона. – Тебе не кажется, что будет забавно, если мы поженимся?
Он поймал ее на слове, крикнул «да». Ему хотелось с нею никогда не разлучаться. В ней была искра жизни.
Перед самым выходом из дома Фиона заметила на кухонном полу полосу. Ее оставила подметка дешевых черных домашних тапок, в которых она ходила с утра.
– Думала, уже перестали пачкаться, – сказала она тоном обычного досадливого недоумения, пытаясь стереть темное пятно, похожее на жирную линию, проведенную фломастером.
И добавила, что больше ей этого делать не придется: ведь с собой она эти тапки не берет.
– Заставят, видимо, все время быть при полном параде, – сказала она. – Или при половинном. Ведь там все равно что в гостинице.
Она прополоскала тряпку, которой боролась с пятном, и повесила на крючок, что под раковиной с внутренней стороны дверцы. Потом, стоя в белом свитере с вязанным в резинку высоким воротом и строгих бежевых брючках, надела золотисто-коричневую лыжную куртку с меховым воротником. Высокая узкоплечая женщина, в свои семьдесят лет все еще прямая и подтянутая, с длинными ногами и большими ступнями, тонкими запястьями и лодыжками и почти до смешного маленькими ушами. Когда-то она была пепельной блондинкой, но в один прекрасный момент (Грант даже не успел заметить в какой) ее волосы, легкие, как пушинки одуванчика, сделались седыми; она по-прежнему носила их распущенными по плечам, как когда-то мать. (Этим мать Фионы умудрилась нагнать страху на родительницу Гранта, провинциальную вдову, работавшую в регистратуре клиники. Длинные седые волосы по плечам сказали ей все, что требовалось знать и об общественном положении этих людей, и об их политических убеждениях; даже состояние их дома не было красноречивее.)
Во всем остальном Фиона с ее тонкой костью и небольшими сапфировыми глазами свою мать ничем не напоминала. Чуть искривленные в привычной усмешке губы она подчеркивала красной помадой (обычно напоследок, перед самым выходом). И в тот день она тоже была самой собой – открытая и притом неуловимая, милая и ироничная, все как всегда.
То, что по всему дому стали появляться прилепленные там и сям маленькие желтые записочки, Грант начал замечать больше года назад. Особым новшеством это не было: она всегда все записывала – название книги, которую упомянули по радио, дела, которые обязательно хотела сделать. Даже свой утренний распорядок выписала на бумажку; Грант находил это непонятным, но трогательным: какая скрупулезность!
7.00: Йога. 7.30–7.45: зубы лицо волосы. 7.45–8.15: гулять. 8.15: Грант и завтрак.
Записки, появившиеся в последнее время, были другими. Вот на буфетные ящики налеплено: «Вилки-ложки», «Полотенца», «Ножи». Неужто нельзя просто открыть ящик и посмотреть, что внутри? Вспомнился анекдот про немецких солдат, патрулировавших во время войны границу в Чехословакии, Гранту его однажды рассказал какой-то чех. Каждая собака у них имела на ошейнике табличку «Hund». Чехи их спрашивали – зачем это? Как зачем, удивлялись немцы. Затем, что это der Hund[3].
Сперва он хотел рассказать это Фионе, потом решил, что лучше не надо. Ее всегда смешило то же, что и его, но вдруг на сей раз она не засмеется?
Дальше – хуже. Как-то, уехав в город, она позвонила ему из уличного автомата и стала спрашивать, как ехать домой. А однажды пошла гулять в лес через поле, а домой вернулась вдоль забора, проделав длинный кружной путь. Сказала, что на заборы можно положиться: они непременно куда-нибудь да выведут.
И не поймешь ведь. О заборах она это сказала как бы в шутку, да и номер телефона помнила назубок.
– Я не думаю, что это повод для беспокойства, – сказала она. – Наверное, я просто схожу с ума.
Он спросил, принимает ли она снотворное.
– Если и да, то что-то не припомню, – сказала она. А потом еще извинилась, что ответила так вызывающе-легкомысленно. – Да нет, я уверена, что никаких таблеток не принимала. Может быть, как раз следовало бы. Витамины какие-нибудь…