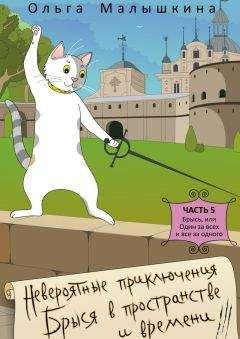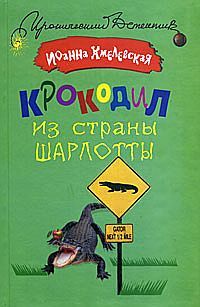Марина Вишневецкая - Брысь, крокодил!
Продолжаю запись на другой день, тридцатого марта две тысячи второго года.
Я дважды прослушала уже мной записанное. Столько слов, а по сути не сказано почти ничего. Но стирать не буду, потому что в нескольких местах мой голос очень уж точно выражает меня такой, какая я сейчас есть.
Девятнадцать лет я прожила в браке с человеком, который был мне и другом, и любовником, и отцом нашей Леночки, очень хорошим отцом. Это я уже потом, когда сказала ему, что полюбила… нет, я сказала, что встретила одного человека… а Валера меня огорошил, что за время нашей семейной жизни имел несколько связей с другими женщинами… Но сама я все девятнадцать лет искренне считала, что у нас идеальная семья, дом, полное понимание. Я не знаю, как описать Валеру в двух словах. Хороший, заботливый, довольно унылый человек, временами довольно-таки язвительный. Сейчас он ведет со своей новой женой группу ребёфинга, это такие дыхательные медитации, очень модные в последнее время, особенно на Западе. И опять хорошо зарабатывает. И очень мне материально сейчас помогает. Большое спасибо ему за это…
С Валерой мы учились вместе в Московском энергетическом институте. Я приехала из своей Тмутаракани, а он всегда, с рождения был москвичом. И когда он на первом же курсе решил, что я обязательно буду его женой, он сразу стал меня гасить. Знаете, как в волейболе выпрыгивают над сеткой и резко мяч гасят. Потому что к третьему курсу (это я уже спустя много лет на фотографиях разглядела) вся моя мальчуковость с меня сошла, получилась, можно сказать, приятная, видная девушка. На полголовы выше Валеры. Но внутренне я продолжала ощущать себя угловатым подростком. И Валерка, вместо того чтобы меня, что называется, расколдовывать, нет, вот он старательно мне внушал, что я отнюдь не красавица, что свитер мешком удачно скрывает покатость моих плеч, что длинная шея — это просто смешно, ее лучше поглубже втянуть, а толстые ляжки — спрятать. И я садилась, а платья тогда носили выше колен, и судорожно натягивала подол на коленки. Я только сейчас понимаю, какой идиоткой казалась. И какой недотрогой. А Валере только это и было нужно, чтобы никакого вокруг меня ажиотажа. И еще, как я сейчас понимаю, ему нужна была дурочка, перед которой он бы мог демонстрировать свою сверхполноценность. Потому что отец у него был из военных, с самого детства его подавлял, а Валерка был еще в школе диссидентского склада человек, и на почве идеологии они с отцом всю жизнь были на ножах. Но мне поначалу эта его резкость, смелость… он, например, никогда не ходил на выборы, говорил: «Свои 99,9 процентов блок коммунистов и беспартийных получит и без меня!» — а ведь за неявку к избирательным урнам могли и в институт написать, а там и из комсомола турнуть, — меня эта смелость тогда поражала. Да он и на комсомольские собрания практически не ходил. Я даже не знаю, почему это ему сходило.
И вот Валерка настолько мне внушил, что я никому, кроме него, не нужна, что когда за мной стал ухаживать один очень интересный парень, Валерка мне и говорит: «Ты что, не понимаешь, что это он на спор? Посмотри на себя и посмотри на него!». И вот, представьте, я всей душой в это поверила. А уже потом, когда было десять лет выпуска и мы у одной нашей девчонки по этому поводу встретились, выпили, этот парень — уже не парень, уже кандидат наук, доцент нашего же факультета, он всегда был большая умница, ленинский стипендиат, а какой веселый, остроумный, все КВНы были на нем, глаза живые, улыбка теплая, — и вот он мне вдруг говорит: «Сырома (это меня так в группе называли), как же я по тебе, Сырома, подсыхал!» А мне, я помню, он тоже нравился на первых курсах больше Валерки. Намного больше. Но он, как и я, тоже был немосквич. И, я думаю, в нем этот инстинкт — жизнеустройства — тоже сработал.
Я почему все это так длинно говорю? Когда мне был сорок один год и я встретила Костю…— человека, который мне показался моим, единственным человеком… и вся моя жизнь снова стала любовью, как это было со мной уже однажды в четырнадцать лет, — и даже моя Леночка мне вдруг стала лишней! — и вот оказалось, что мне абсолютно не с чем это сравнить. Разве только с полудетским, смешным украденным счастьем Фединых губ на лице. Господи, прости меня, многогрешную. Скорую на слезы и ласковую…
Самый конец записи я немного сейчас стерла. Чтобы слезы убрать, но, может быть, стерлось и последнее слово, не знаю… Надо было, наверно, сразу все сказать как есть, — тогда про состояние моих нервов будет понятно: уже девять с половиной месяцев я лежу, прикованная к постели с парализованной нижней половиной тела. На ногах, но только в кончиках пальцев, недавно появилась чувствительность. И мне это дает большую надежду. Такое слово, которое обычного человека пугает: метастазы, — а для меня это мой диагноз: метастазы в позвоночнике. Но после первого курса химиотерапии мое положение стабилизировалось, а после второго, как я уже сказала, даже возникла некоторая надежда. И теперь мне нужно выровнять показатели нескольких анализов, чтобы быть готовой пройти через третий курс. Это, конечно, малоприятные для постороннего человека подробности. И я постараюсь, чтобы их больше не было. Потому что, когда говорит больной человек, веры ему намного меньше. Людям кажется, что это не он, что это болезнь за него говорит. Но на самом деле люди так защищают себя от правды, которая этому человеку уже открылась, а им, пока они еще здоровы, суетятся, бегают, радуются по пустякам, — их эта правда еще страшит.
Теперь я хочу уточнить некоторые моменты своей биографии. И мне даже самой интересно послушать, какие я дам себе оценки — со всей ли строгостью. Хочется, хочется себя, любимую, пожалеть.
Валера мне казался прежде всего настоящим другом, и это ведь до сих пор подтверждается. Так что я и сейчас не могу сказать точно, было ли мое замужество ошибкой. А если бы я, например, рискнула из Москвы уехать, распределилась, как многие наши немосквичи, в тот же Куйбышев, или Волгоград, или в Вологду, — как повернулась бы моя жизнь? Не встретила ли я там бы свою большую любовь? Я ведь только теперь понимаю, что я с этим ожиданием подспудно прожила целую жизнь. Что когда мне в три года Юра, мой старший брат, сказку читал любую — хоть про царевну-лягушку, хоть про крошечку-хаврошечку, — в меня закладывалась определенная программа, древнее человечество из своих тысячелетних глубин кодировало всю мою дальнейшую жизнь. А я жила и об этом не знала. Я, правда, помню, что когда Леночке эти же самые сказки читала, в меня подобная мысль закрадывалась: что вот теперь она станет искать, ждать своего принца, что эта установка через меня уже в нее попала, а хорошо ли это? Но эта легкая тревога моей судьбы уже не касалась, она была связана только с Леночкиной. И, таким образом, я снова ничего ровным счетом про себя не поняла.
И еще раньше судьба мне тоже дала важный намек, когда я летом после третьего курса приехала к матери. На улице, прямо в один из первых же дней, я встретила Федора. Он только окончил техникум связи. И у него был месяц перед началом работы. И вот мы опять втроем с моим средним братом стали, как теперь говорят, тусоваться. То ездили на рыбалку, то ходили за грибами или просто на речку купаться… Федя уже был женат, не на Свете, его жену звали Мариной, она сидела с грудным ребенком. А я тогда почему-то считала нормальным, что он не помогает ей, а шляется с нами.
И вот я снова впала в состояние яблочного червя на все две недели, которые Федя был рядом. Я сравнивала его с Валеркой и с сокурсником, который мне нравился больше Валерки: в Федоре не было ни их ума, ни их начитанности, воспитания, ни их душевности. Но ничего этого мне и не было нужно, когда Федор был рядом. Мне было достаточно видеть его крепкое гибкое тело, как оно упорно бьет ногой по стартеру мотоцикла, как тащит к костру сухое дерево, как надевает на ветку кусочки мяса вперемежку с луком и помидорами, как оно выхватывает рыбку из реки и как вдруг бестрепетно и пристально смотрит на меня — долю секунды, а дольше я бы просто не вынесла. Это все было так сильно: его глаза как будто вспарывали мне нутро, он вспарывал его ножом рыбе, а я трепыхалась. А потом, уже дома, — все как по писаному! — делалась сострадательной, скорой на слезы и ласковой. Мать приносила с работы, для приработка, плоские картонки, их надо было складывать в коробочки для лекарств. Я сидела, их складывала, подолгу, часами, и умилялась, какой же я молодец, что не в клубе на киносеансе… А на самом деле прострация, в которой я тогда находилась, переполняла меня лучше любого кино. Перед моими глазами постоянно висело или Федино лицо, или его телодвижения. Это был такой силы мираж, и я с неизбежностью проваливалась в него, как в нашем городе люди изредка и до сих пор проваливаются под землю, потому что внизу, под нами, находятся еще перед войной выработанные, залитые водой шахты, штольни давно заросли кустарником, и либо дети шляются за городом и в эти штольни проваливаются, либо бывали и такие случаи, как, например, в начале шестидесятых: на соседней с нами улице ночью под землю стал уходить целый частный дом, детей успели выпихнуть, потом родители сами через окна выскочили, а бабушка-старушка так и ушла в преисподнюю… Это было такое мое сильное впечатление детства: зима, снег, мороз, а мы буквально взмокли от страха, но не уходим, стоим над этим черным провалом, на другой его стороне высится уборная, которая одна во всем дворе и осталась, провал немного дымится и припахивает чем-то кислым, теперь я так понимаю: это был газ, метан, но взрослые уже устали нас, мелюзгу, отгонять, и мы им дышали сколько хотели, а потом было все: и голова болела, и рвота… Но не такая уж это была расплата за небывалое, жуткое счастье — постоять на самом краю земли.