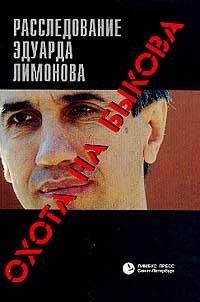Амритрай - Современная индийская новелла
— Может, еще раз умоетесь? — ласково спросила я.
— Да, освежиться надо бы. Дочитался до того, что глаза заболели, — ответил он и направился в ванную.
Я поспешила за ним. Поливая ему из кувшина, не упускала возможности коснуться его руки своей. Он, казалось, немного оттаял. Я сбегала за полотенцем и, подавая его, почти прижалась к нему всем телом. Глаза учителя стали какими-то хмельными.
«Ну, кажется, дела идут на лад; еще немного, и он — мой», — обрадовалась я.
Я положила ему на тарелку целую гору испеченных утром пирожков с горохом и пончиков и добавила к ним большую ложку масла.
— Куда же столько? — с улыбкой сказал учитель. — Я еще не проголодался после обеда.
— Нет уж, чур, что подано, съесть без остатка, — пошутила я, надув губы.
— С тех пор как умерла моя мать, меня никто не баловал так едой, — сказал учитель.
Я села рядом с ним. Подкладывая в его тарелку еще масла, спросила:
— А давно умерла ваша мать, господин учитель?
— Восемь лет назад, — ответил он и, как-то странно глядя на меня, продолжал: — Когда я смотрю на тебя, Савитри, я вспоминаю мать. Ты заботишься обо мне, как о ребенке. Чем я отблагодарю тебя за твою доброту, Савитри?
— Ну о какой доброте вы говорите?! Вы так мало едите. И деньги каждый месяц даете.
— Деньги? При чем тут деньги, Савитри? Разве на них купишь внимание и заботу?
Когда мы пили чай, я спросила:
— И долго вы собираетесь жить вот так, бобылем, господин учитель?
— Бобылем?! Да, действительно, я совсем один. Ни семьи, ни родных. Никто не встречает, никто не провожает. Но ведь и семья и родные — ложь, Савитри. Никому я не нужен.
— Ну зачем вы так? Ведь есть я, есть Маллеши. Разве наше внимание к вам, забота о вас тоже ложь?
— Нет, конечно. Но переведут меня в другое место — и всему конец. Все в руках Шивы, Савитри. Он дает, он и отнимает, — серьезно сказал учитель и, резко поднявшись, вышел.
Я не знала, радоваться мне или печалиться. Так старалась: одевалась, причесывалась — и все впустую.
Оставалась еще слабая надежда, что мне удастся добиться своего вечером.
Наступил вечер.
Учитель вошел как-то нерешительно. Увидев блюдо с вермишелью, посыпанной сахаром, сказал:
— Опять приготовила сладкое, Савитри?
— А что?
— Просто я не привык есть так много сладкого.
— У вас, вероятно, желудок болит от всего, приготовленного руками женщины, — с вызовом сказала я и рассмеялась.
— Да нет, я в самом деле не люблю сладкого, Савитри.
— Вообще никакого сладкого не любите? — игриво спросила я.
Другой на его месте сразу же поднялся бы и, заключив меня в объятия, отведал сладости моих губ. А он — бог мой! — даже не шевельнулся. Молча поел и вышел.
Я осталась одна, на душе у меня кошки скребли. Я быстро поела и сделала последнюю, отчаянную попытку. Взяв чашку с молоком, я смело направилась к нему в комнату. Он уже постелил себе и собирался ложиться.
— Так рано спать? — спросила я.
— Сегодня хочу лечь пораньше.
— Счастливец! Можете спать, а меня вот сон стороной обходит.
— Почему же?
— Вы еще спрашиваете — почему! Будто ничего не замечаете!
Я притворно зевнула и потянулась, представляя ему для обозрения свою пышную грудь. Распустила волосы, потом опять собрала их в пучок. Учитель тяжело вздохнул.
— Замечаю, Савитри. Все замечаю… Но…
— Что но?..
— Разве ты не догадываешься, видя этот шрам у меня на щеке?
— О чем я должна догадаться? Откуда он у вас?
— Этот шрам, Савитри, знак того, что для меня вся любовь сгорела и превратилась в прах. Я был женат. И моя жена, женщина, с которой я связал жизнь, спуталась с соседом и ушла к нему, оставив у меня на щеке отметину раскаленным половником.
Закончив это грустное повествование, учитель растянулся на постели, словно выбившись из сил. Я заботливо, как ребенка, укрыла его одеялом и ушла к себе.
Долго лежала без сна, обдумывая, как я утром скажу ему, что не все женщины дурные, что есть и верные, любящие, как я, например.
Когда я утром встала, комната учителя была пуста.
Она пустует до сих пор.
Перевод М. ДашкоК. Ашватха Нараянанрао
Его любовь
— Мама! Мамочка! Ты только послушай… — взволнованно закричал двадцатидвухлетний Рахиман, вбегая в дом.
— В чем дело, сынок? Чему ты так рад? — спросила старушка мать.
— Восемнадцать рупий жалованья…
— Жалованье? Какое жалованье? За что?
— И не только жалованье — обмундирование, питание, жилье…
— И кому же платят?
— По всей деревне объявления расклеены. И снимки. А какие снимки!
— Ну, какие же?
— Солдаты на них, в форме. Если начнется война… — Он не успел договорить: на кухне — дзинь — разбилась тарелка.
— Война? О господи! Да что ты говоришь?! Осторожнее с посудой, Унниса! Надо беречь то, что есть. От добра добра не ищут, сынок, — сказала мать.
— Да где добро-то? Нужда беспросветная… Живот есть чем набить — надеть нечего, купишь одежду — зубы на полку клади. Ну что проку от этой работы дровосека? — стоял на своем Рахиман.
— Что ж, идти под пули?
— Так ведь никто не знает, что его ждет. От судьбы не убежишь. Повезет — и на войне останешься цел и невредим. А жалованье мое тебе ой как пригодится. А если не повезет — беды все равно не избежишь. Болезнь свалит или что другое случится…
— Что ни говори, не дело ты задумал, сынок.
— Я твердо решил, мама.
— Нас бы пожалел.
— Такой случай нельзя упускать.
— Тебя угонят куда-то, а мы тут как? Даже подумать страшно…
— Не расстраивайся, мама. Ведь даже если я не вернусь… Карим с вами останется. Семнадцать лет парню. Надо будет — позаботится о вас.
— И все-таки брось ты это, сынок…
— Да сколько можно так мучиться? Ведь без риска и счастья не видать.
Мать еще долго отговаривала сына. Потом сдалась.
Вечером к нему приступилась жена. Унниса расстелила на полу поистершуюся циновку, положила на нее подушки, одеяло. Рахиман лег, вытянул ноги и, положив голову на руки, задумался.
— К чему такое упрямство? — тихо спросила жена.
— Какое упрямство? — вздрогнул Рахиман.
— Вы так стремитесь в солдаты!
— Подойди сюда и сядь, поговорим.
Она расправила одеяло и села рядом с мужем. Рахиман обнял ее и, притянув к себе, спросил:
— Ты слышала, как я говорил с матерью?
— Слышала. Да только оставьте, пожалуйста, эти мысли, — она устремила на мужа молящий, проникающий в самую душу взгляд.
— Я долго думал, — ответил Рахиман и тяжело вздохнул. Видно было, что он твердо решил пойти на эту жертву.
Несколько минут оба молчали. Руку Рахимана обожгла слеза.
— Что ты, глупышка? — Рахиман привстал и, наклонившись, посмотрел в лицо жене.
— А еще говорите, что любите меня, — сказала Унниса прерывающимся от волнения голосом.
— Люблю! Ты что, сомневаешься в этом? Как раз во имя этой любви, чтобы ты не видела нужды и была счастлива…
— Счастье такой ценой?
— Не надо так говорить. Ты потом все поймешь. Из-за этой проклятой бедности ничего не сделаешь по-людски. Скоро роды… А где денег взять? И потом…
— Как-нибудь обойдемся. Только бы вы были рядом.
— Нет, я не согласен. Подвернулся случай поправить положение, а я должен упускать его? Это было бы неразумно. Сидеть рядом и расточать ласки — это еще не любовь. Настоящая любовь та, когда, как тебе это ни тяжело, разлучаешься с любимой, чтобы сделать все, что в твоих силах, для ее счастья. Разве не так?
— Мне страшно. — Унниса заплакала навзрыд.
Рахиман обнял жену, и, стараясь успокоить ее, спросил:
— Чего ты боишься? Думаешь, со мной что-нибудь случится?
— Перестаньте, пожалуйста. Еще беду накличете, — прошептала она.
— Молись богу, Унниса. И не теряй надежды. Даже если со мной что случится, ну зачем тебе уж так убиваться?
— Что это вы говорите? — изумленно спросила Унниса, перестав плакать.
— Все мы под богом ходим. И если разобраться, что хорошего я тебе дал? А сколько было других, с которыми тебе жилось бы лучше!
— Перестаньте, пожалуйста…
— А что? В самом деле, сколько было охотников, готовых дать тебе кров и любовь! И теперь найдутся…
— И не стыдно вам! Почему вы так жестоки?! У меня даже в голове не укладывается то, о чем вы говорите, — рассердилась Унниса.
— Я не хотел причинить тебе боль. Но я считаю, что всегда надо рассчитывать на самое худшее. И не витать в облаках, а подходить к делу по-серьезному. Вот почему…
— Довольно. Я не хочу и слышать об этом! Вот если я умру, вы наверняка снова…
— Ладно, оставим это. Не надо было мне заводить такой разговор. Обидел я тебя, прости. Пока мы так любим друг друга, разве может судьба быть жестокой к нам? Вот увидишь, я добьюсь успеха, получу чин и вернусь. Тогда тебе эти страхи покажутся глупыми.