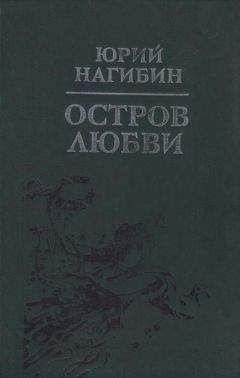Юрий Нагибин - Любовь вождей
— Кватанихарамишама, кватанихарамишама!!!
Люди запели, не размыкая уст, тихую, всепроникающую песню без слов, восславляющую молодого бога. Песня вознеслась, казалось, она творится не на земле, а изливается с синего сияющего неба.
Суржиков никогда не слышал такого пения. Он стоял умиленный, ничуть не подозревая, что воспевают его. И тут Священная корова доверчиво потянулась к нему мордой. Можно было поклясться, что она улыбается, на редкость мило и женственно улыбается своим черногубым ртом. Еще он увидел, что огромные голубые глаза обрамлены длинными пушистыми ресницами. Суржиков не любил животных, но тут растрогался, протянул руку и почесал корове твердый лоб в нежных завитках шерсти…
Он коснулся священного животного — и молния не испепелила его! Если еще и оставались в толпе маловеры и скептики, не убежденные в божественной природе зашельца то теперь все сомнения испарились без следа. Как исчезли без следа и ядовитые испарения больного агрегата. В открытой двери было видно скучное сырое нутро гигантской котельной.
Толпа ползла к Суржикову на коленях, а оба скелетоподобных старца, соревнуясь, выкликали его божественное имя все более тонкими, пронзительными и долгими голосами. Виновник торжества наконец-то прозрел, правда, на один глаз: он понял, что чествуют его, но счел это лишь чрезмерной экзальтированной благодарностью. Собрав весь свой скудный запас восточных слов, Суржиков кланялся и говорил:
— Якши, генацвале, хванчкара, зай гезунд, бакши!.. Откуда ни возьмись, в руках у главного старца оказался громадный венок из ирисов, он надел его Суржикову через плечо, будто победителю велосипедных гонок Мира. А другой старец увенчал его венком из красных благоуханных цветов, похожих на розы, но без шипов.
— Бакши, хачапури, бешбармак! — благодарил и кланялся Суржиков. Тут он приметил машину Болтуна и со всех ног кинулся к ней. Едва протиснувшись в дверцу в своем могучем венке, он крикнул загнанно: — Гони!
— Ты теперь не Суржиков, а Кватанихарамишама, — сообщил Болтун, выруливая на шоссе. — Божество первого круга, второго пояса, третьего разряда.
— Что ты несешь? — выпутываясь из венка, придушенным голосом сказал Суржиков.
— А разве ты не понял, что тебя обожествили?
— Этого только не хватало! А если на работе узнают?
— Повесят на Доску почета. Слушай, тебе здорово досталось?
— Чепуха! Ты куда едешь?
— В гостиницу.
— Мне надо в магазин электротоваров.
Там Суржиков выбрал самый дешевый электрический фонарик и, скорбя душой, расстался с двумя из десяти имеющихся долларов.
— Зачем тебе такое дерьмо? — удивился Болтун. — У нас в посольском магазине лучше и дешевле.
— Неохота всю ночь в очереди стоять, — огрызнулся Суржиков.
— Да, мой коллега крепко там подзастрял. Небось уцененные полотеры завезли. Слушай, Суржиков, я тебя к себе не приглашаю, у меня не убрано, но если хочешь, баночку сивуши захвачу.
Суржиков наотрез отказался: устал, хочет выспаться. А сивуши хлопнем завтра, на посошок. Похоже, Болтуна такой расклад вполне устроил.
Было около полуночи, когда Суржиков покинул гостиницу. Он спустился из окна своего номера, находившегося на третьем этаже, по шершавому стволу финиковой пальмы, прыгнув на него с подоконника. Вокруг — ни души. Спасенная им страна измученно спала в тихой безлунной ночи, припахивающей цедрой. Суржиков бегло отметил про себя, как сильно поднялась за минувший день трава, как густа и свежа листва деревьев. До чего же благодатный климат — побежала по капиллярам чистая влага, и отравленная природа за считанные часы ожила, налилась благословенными соками.
Суржиков быстро добрался до военной базы. Сейчас он собирался сделать то дело, которое вопреки всем предостережениям Генерала считал главным. Неужто его посылали только для того, чтобы заменить кран? Мы же люди политически грамотные, сами малость подсекреченные, понимаем, что к чему. Зачем внедрять в дружескую страну лишнего шпиона, когда там спокон века ошиваются два бездельника, не лучше ли воспользоваться командированным для другой надобности специалистом? Пусть его проверяют на детекторе лжи, он с чистой душой будет утверждать, что никто ему такого поручения не давал, напротив — отговаривали. Он сам, как сознательный член общества, решил прощупать в чисто оборонительных целях военный потенциал соседней миролюбивой страны для скрепления дружеских уз.
База внезапно возникла из темноты лучами прожекторов, засеребрившими колючую проволоку, идущую поверх ограды; четко выделялись силуэты наугольных сторожевых башен. Центральные въездные ворота находились под сильной охраной, а к неприметной дверке в стене для пешего входа и выхода был приставлен лишь один часовой. Прожекторные лучи не достигали этого слабо охраняемого места. Суржиков подполз ближе и увидел, что часовой скручивает наркотическую папироску:
В одной руке он держал тонкую папиросную бумажку с табаком, сложив ее желобком, другой — осторожно подсыпал в табак белый порошок из баночки. Суржиков ощутил сладковатый запах марихуаны. Солдат так ушел в свое занятие и предвкушение близкого блаженства, что утратил ощущение окружающего, Суржиков подобрал валявшийся на земле железный прут и метнул в колючую проволоку, по которой, как водится, был пущен ток высокого напряжения. Зеленая ослепительная вспышка — короткое замыкание, и проволока стала безвредной. Часовой вскинул голову и чуть не просыпал курительную смесь. Это так его напугало — наркотики дороги, купи их на скудное солдатское жалованье! — что встревожившее его явление разом выскочило из головы, и он весь сосредоточился на своем тонком щепетильном деле. Его можно было не опасаться. А как же остальная охрана, ведь нельзя же было проморгать вспышку? Но, очевидно, сейчас был час приема наркотиков. Местные жители — традиционалисты и немного педанты. К этому приучила их религия: трижды в день, в некий час, чем бы ты ни занимался, бросай все, изгоняй из души житейскую суету, расстилай молитвенный коврик и оставайся наедине с Богом. Тут не крестятся, не шепчут молитв, не бьют поклонов, только сосредоточиваются, уходят в себя, а через себя к Верховному Божеству. А затем возвращаются на землю: к делам, торговле, спорту, воровству, попрошайничеству, любви, ссоре, к обычным земным заботам. В этот предполуночный час они ловят кайф, и тут хоть трава не расти, гори все огнем. Потом, когда папироска будет выкурена, настанет и минет блаженство с малолетними гуриями, добрыми джиннами, волшебной музыкой, придет опамятование, легкий бодрящий озноб, с ним — чувство долга и бдительная готовность. Но пока это придет, Суржиков сделает свое дело.
Надо было перебраться через гладкую стену. Он и это предусмотрел. В Японии, в доме ниндзя, ему подарили присоски, с помощью которых «люди-невидимки» подымались по отвесным стенам и скалам, выбирались из люков и пропастей. Он захватил эти присоски с собой, равно как и старый чулок жены. Натянув чулок на голову, он ощутил родной запах ее тела, и что-то пискнуло у него в душе, сделав ее на мгновение слабой. Он справился с собой и влепил первую присоску в гладь стены. Подтянулся, присоска держала надежно, и шмякнул другую присоску. Выдерживая его немалую тяжесть, присоски вместе с тем удивительно легко отлеплялись. Суржиков представил себе ту же продукцию в отечественном исполнении: присоски или не держались бы, или держались бы насмерть — третьего не дано. Но вот он добрался до верха, осторожно пролез под проволокой, бесшумно спрыгнул вниз, и тут с боязливым криком на него накинулся притаившийся за деревом стражник.
Суржиков почувствовал его легкое, пустое, кошачье тело, без труда оторвал его от себя и ударил электрическим фонариком по темени. Солдат покорно лег на землю и свернулся калачиком. Суржиков наклонился — он дышал. Ничего, оклемается.
Длинными, бесшумными прыжками импалы Суржиков устремился к базе. Если бы кто из знавших скромного, мешковатого инженера-химика с потертым портфелем видел его сейчас, то глазам своим не поверил бы, так ловки, упруги и точны были все его движения. Это проснулась в крови родовая память о бесчисленных поколениях умелых воинов, ходивших на хазар, громивших псов-рыцарей на чудском льду, бравших Казань и Астрахань, воевавших со шведами под Полтавой и с турками под Карсом, сокрушивших непобедимого Наполеона, штурмовавших Шипку, шедших на кинжальный огонь в галицийских полях, гнавших Деникина и Врангеля, поднявших красное знамя над рейхстагом. На войне погибли отец и дядя Суржикова, с империалистической не вернулся дед по матери, многих роздали Суржиковы в других войнах и немало сами перепластали народа. По младости лет Суржиков не мог воевать в Отечественную, но вот попал в боевую обстановку и мгновенно обнаружил в себе умелого, находчивого и бесстрашного воина. Наверное, именно это свойство имел в виду император Николай I, когда говорил, что Россия есть государство по преимуществу военное. Всегдашнюю боевую готовность подразумевал глядевший в корень монарх, способность к бесконечному терпению и яростной вспышке, чем и отличается воинский труд от тягучего, изо дня в день, мирного труда. Наш сеятель и хранитель был потому хорош, что работал вусмерть лишь несколько месяцев в году, пока длилась страда деревенская, остальное время отлеживался на печи, копя новую силу. Ползучий, без подъемов и спадов производственный труд по природе своей чужд русскому естеству, органически не терпящему рутины… Вскоре Суржиков добрался до огромного ангара. Ощупывая стены, он убедился, что это просто брезент, растянутый по металлическому каркасу. Он вынул перочинный ножик, разрезал брезент и проник внутрь. Включил электрический фонарик и не сдержал легкого взвоя: все пространство ангара было забито новенькими танками. Похоже, ими еще не пользовались, мощные пушки не произвели ни единого выстрела на учебном полигоне, гусеницы не мяли, не корежили землю. Против кого же сжала бронированный кулак миролюбивая Голодандия? И он похвалил себя за то, что не послушался Генерала. Суржиков посветил фонариком на броню ближайшей машины: какое-то непонятное слово, начинающееся буквами «м» и «а». Так это же по-английски: made — сделано. «Попался, который кусался!» — сказал юному правителю страны разведчик Суржиков. Распинаемся в дружелюбии к Советскому Союзу, а боевую технику заказываем в US… Он протер глаза: нет, все правильно, черным по белому, то есть белым по зеленому было написано «USSR».