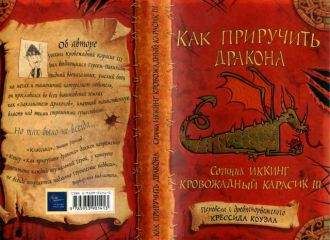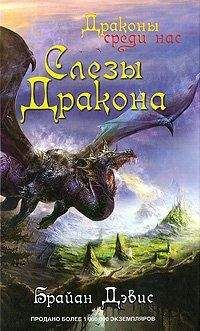Джон Краули - Эгипет
Что ж, он тогда был совсем еще молод, и она тоже; такие вещи случаются на каждом шагу, разве не так? Поразмыслив, он пришел к выводу, что его поступок проходит по разряду простительных; если принять во внимание его воспитание, если принять во внимание то обстоятельство, что самая нежная пора его юности прошла в классных комнатах и спортивных залах, среди бесчисленных лиц мужеска пола, в школе Св. Гвинефорта; в таком случае его вполне можно извинить за то, что он был ошарашен и не сразу сориентировался, оказавшись разом влюбленным и в койке. Естественно, он мучился, страшно, невыносимо, он сам едва не вскрыл себе вены, и не из романтического разочарования в жизни, а просто потом что он больше ни минуты не мог выстоять в этой буре утраты, приключившейся с ее уходом, в которой он стоя один и с непокрытой головой и никак не мог взять в толк — почему она смогла вот эдак с ним поступить.
И все же он не мог винить тогдашнего мальчика за эти нелепые мучения, столь же поразительные во внезапности своей, сколь недавняя любовь; как не мог и списывать на одну только юность того тупого нежелания взрослеть, которое продержалось в нем еще долгие годы после того как сама юность приказала долго жить.
В чем же тогда было дело? В том, что он вырос единственным сыном невыносимого, чудаковатого, рыцарски восторженного Акселя — в Бруклине; или в последовавшей за этим замкнутости дома Олигрантов в Кентукки? Кто научил его, кто сформировал его душу этаким вот странным способом? Бог весть где, бог весть откуда он узнал о том, что есть такая потайная дверца, через которую можно пройти; дверца к душе, к телу, которые оба имеют божественное происхождение — или же суть искры от изначального огня, столь же святого и очистительного. И вот тебе на: пред тобой в итоге hortus conclusus [84], и о том, что есть еще и обратный путь, он знал ничуть не больше, чем о том, что есть вход, — и что этот путь, как он выяснил на личном опыте, с таким удивлением, с такой жутковатой радостью, есть дорожка протоптанная. Протоптанная дорожка.
Он коротко рассмеялся и, закашлявшись, сглотнул горьковатую слюну. Он сложил на груди руки и стал смотреть вверх, в большое красивое зеркало, прикрепленное к стене консолями таким образом, чтобы в нем отражалась кровать: поглядим, так сказать, на себя сами.
Те, кто не помнит своих собственных историй, подумал он, обречены повторять их вечно.
К тому времени, как на его горизонте появилась Джулия Розенгартен, он уже успел скинуть с себя, как змеиную кожу, это детское нежелание взрослеть, или, скорее, не скинул, но как следует замаскировал под новой кожей; он был вполне в состоянии воспринять ту первую ночь с ней (ночь и впрямь на удивление изысканную) не как привычное «столкновение», но как всего лишь навсего очередной эпизод набиравшего в те годы обороты сексуального бума, как случай из жизни вполне взрослого человека на веселом и трахающемся от души Манхэттене. Потом он не давал ей о себе знать полтора месяца, но полтора месяца спустя после первого свидания они уже носили одни и те же свитера, у них была общая собака, и Пирс всерьез обдумывал проблему: как бы эдак поудобнее поднять тему Смешанных Браков перед матерью и перед Сэмом. И годом позже он тупо и слепо обдумывал все ту же проблему, тогда как у Джулии полным ходом шел искрометный роман с соседом сверху и она никак не могла заставить Пирса обратить внимание на происшедшие с ней перемены. Во время финального раздела имущества собака, после секундного колебания, решила уйти с Джулией.
Сюжет для фарса. Моя жена. Мой лучший друг. Моя собака.
Женщины, только и мог он умозаключить, исходя из собственного жизненного опыта вплоть до нынешнего декабрьского дня, по самой своей природе полигамны, что бы там ни гласили расхожие народные мудрости; они способны полюбить глубоко и навсегда, но только на некоторое время, а потом уходят, вдруг и во всех направлениях сразу, как те гигантские фейерверки, которые вывешивают в темном небе звездный купол, такой солидный, такой незыблемый, который висит в расцвеченной праздником ночи целую вечность, краткую вечность, ровно столько, сколько длится радостное и изумленное восклицание публики, а потом исчезают, как будто их никогда и не было. А мужчины (взять хотя бы его самого для примера) по природе моногамны, они связывают себя буквальным смыслом данных обещаний и искренне верят в то, что такого рода клятвы даются в расчете на вечность En del un dieu, en terre une deesse, как выразили эту мысль старые провансальские поэты.
Как так вышло, что мир полнится историями, историями удивительно достоверными на первый взгляд, историями, на которые натыкаешься повсюду, — о том, что когда-то все было иначе, — этого он не знал. Может статься, то был некий заговор; или, еще того вероятней, в прежнем мире, в мире, где он не имел счастья жить, эти истории и впрямь соответствовали действительности; и только теперь, когда мир из того, чем он был когда-то, превратился в то, что он представляет из себя сейчас, женщины смогли скинуть маску, снять маскарадный костюм и вести себя так, как то диктует их истинная природа. Противозачаточные средства и все такое. Кто его знает.
Как бы то ни было, разве не должен он был к настоящему моменту понять, что к чему, и научиться действовать сообразно существующему здесь и сейчас положению вещей, вне зависимости от того, в какой такой седой древности и из каких средневековых материалов была выкована его душа, его история? И если он вдруг, неожиданно для самого себя (в кромешной мгле, в кромешной заснеженной мгле) оказался в роли героя эротического романа, порнографической книжонки самого что ни на есть современного разбора, при том, что его душа и тело были созданы для совсем другой эпохи, для совершенного иного повествования, разве не надлежало ему заранее разнюхать все входы и выходы, прежде чем выпрыгивать из штанов?
Просто будь поосторожней, сказал он себе в ту ночь, лежа с нею рядом, мучаясь бессонницей и удивляясь самому себе; просто на сей раз будь, ради всего святого, чуть-чуть поосторожней. Но толку от такого рода предостережений все равно не было. Прошла зима, целая зима, когда она вернулась из Европы, он, естественно, сдался л и сдался со всеми потрохами; та светская жизнь, в которую они пустились, всего лишь залакировала его собачью преданность любимой женщине внешне спокойной маской эдакого все понимающего знатока, тогда как вокруг бушевала самая безумная, развязная похоть, которая только лишь подстегивала его наклонность к моногамии, всему свету назло. Может статься, очень может статься, что если бы ему приходилось врать, флиртовать и трахаться направо и налево — так нет же, все двери заранее были для него раскрыты, все, все до одной, раскрыты настежь. И, естественно, далее все было именно так, как должно было быть, с абсолютной неотвратимостью, включая сюда и нынешние предутренние сумерки, в которых он лежит на спине и смотрит на свое зеркальное отражение, которое смотрит на него в ответ, сложив руки на труди, вытянув ноги так, что они торчат из-под одеяла, с пустым, ничего не выражающим лицом. Абсолютная неотвратимость.
Подобно Бурбонам, он ничего не забывал и ничему не учился; оттого-то он и вернулся опять в исходную точку. Его история повторялась раз за разом, и если в первый раз она приняла форму трагедии, во второй раз — фарса (как сказал Маркс, по совершенно другому поводу, в ином контексте, из которого Пирс беспомощно выдернул сейчас эту горькую прописную истину), то как ее прикажете квалифицировать, когда она повторяется в третий раз; а в четвертый?
День занялся, и сразу в полную силу; радиаторы яростно шипели о зиме. Пирс откинул одеяло, но не встал; он лежал и смотрел (а куда денешься, резное золоченое зеркало и было подвешено именно так, чтобы никто и никуда от него не делся) на свое длинное голое тело. Большие руки, большие ноги; и в данном случае народная примета не промахнулась.
Знаешь, что я тебе скажу? — сказала она ему в ту первую ночь, и взгляд у нее при этом был разом озорной и совершенно искренний. — Знаешь, что я тебе скажу? У тебя красивый член.
По жилам у него прошла холодная волна, память о страстном желании и неотвратимость утраты; Пирс лежал и слушал, как она поднимается в нем, а потом идет на убыль, как будто приступ головокружения или ангины.
Это уже не смешно, подумал он. Я уже не мальчик. Так больше жить нельзя. На сей раз это было похоже на тяжкое заболевание, от которого он никак не мог избавиться, на одну из тех детских болезней, которые молодым и сильным организмам даются легче легкого, пару дней в постели, — и здоров, а вот взрослого человека могут навсегда оставить инвалидом.
Утоли мою жажду вином, утешь меня спелыми яблоками, ибо я болен любовью. Болен болен болен.
Вот пойду и постригусь в монахи, подумал он, и все тут; пойду и постригусь в гребаные монахи. Если после двух браков (конечно же, оба они были браками всего лишь по фактическому положению вещей, вроде как бывают браки всего лишь по названию, — но именно как таковые он их ощущал) и половой жизни, которая казалась ему настолько разнообразной и феерической, что всякий нормальный мужик о таком может только мечтать, он так и не сумел избавиться от этого дурацкого нежелания взрослеть, которое уже давным-давно должно было облететь с него как старая змеиная кожа, а вот на тебе, не облетело, от дурацкого нежелания взрослеть, которое и дальше будет причинять ему одну только боль, тогда самое лучшее, что он может сделать, — это избрать одиночество.