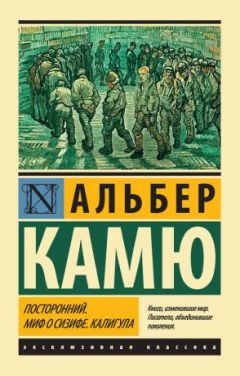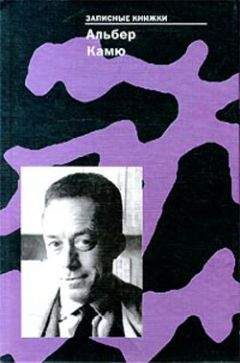Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Расскажу, – неожиданно легко согласилась Катерина. – Вот как дойдём, так сразу и расскажу.
Через месяц Андрей познакомил их с Гиги, симпатичным офицером-моряком, который тут же со всей возможной в лагере лихостью и размахом принялся ухаживать за Дашей. Сидел Гиги за то, что, сходив несколько раз в Англию по ленд-лизу, имел неосторожность заметить в морском клубе в Мурманске, что студебекеры нравятся ему больше газиков. Ещё через месяц Андрей привёл Василия, основательного, спокойного мужика, токаря Псковского электромашиностроительного завода. Пройдя три года войны без единой царапины, в августе сорок четвёртого под чешским городом Радзымином Василий был сильно контужен и попал в плен. Освобождённый Красной армией в конце войны, на вопрос сотрудника Смерша [61], почему он не пытался бежать, Василий простодушно ответил, что был ранен, слаб и надеялся на скорое освобождение, так как война шла к концу. В Смерше с таким взглядом не согласились. Василия судили военно-полевым судом и дали двадцать пять лет за дезертирство и нарушение воинской присяги.
Теперь их было десять, они активно делали запасы, обсуждали планы и ждали весны. Встречались редко, попасть из мужской зоны в женскую было нетрудно, но запрещалось. Пойманному в лучшем случае грозил карцер, а в худшем – новый срок. Но, даже встречаясь раз-два в месяц, Катерина умудрялась двигать дело, и Ося перестала надеяться на хороший конец.
В апреле Наташе исполнилось тридцать. Целую неделю Ося, Катерина, Даша и Лена откладывали по кусочку из хлебной пайки, сушили их на печке, измельчали в муку деревянной самодельной толкушкой. Вместо дрожжей муку залили смесью водки и витаминного сиропа, выпрошенного в больничке, поставили на печку. Сверху на торт накрошили последнюю конфету из Дашиной посылки, вставили тридцать лучинок, подожгли и вручили имениннице. Наташа расплакалась, расцеловала их, сказала, что они для неё всё – и друзья, и семья, и товарищи по работе, и что таких друзей у неё и на воле не было.
Вечером она забралась к Осе на нары, улеглась рядом и долго молчала. Ося тоже молчала, улыбалась в темноте.
– Ужасно ты нелюбопытная, Оля, – сказала, наконец, Наташа. – Никогда ни о чём не расспрашиваешь.
– Если человек хочет мне что-то сказать, он и так скажет, без расспросов. А не хочет – и с расспросами не скажет.
– А если он хочет, но стесняется?
– Хочешь мне сказать про Лёшу, но стесняешься?
– Откуда ты знаешь? – быстро спросила Наташа.
– Догадалась.
– Осуждаешь? Думаешь, не прошло и трёх лет, как нет Володи, да?
– По какому праву я могу тебя осуждать?
– Ты вот своему Янику одиннадцать лет верна.
– Каждый решает для себя.
– Пойми, Оля, я жить хочу. Любить хочу, и чтобы меня любили. Детей хочу. Ну, выпустят меня отсюда лет через десять, мне будет сорок, выглядеть я буду на шестьдесят, ни работы, ни квартиры, ни здоровья – кому я буду нужна?
– Да не осуждаю я тебя, с чего ты взяла, – сказала Ося. – Я рада за тебя, любишь – значит живёшь.
– Как это ты хорошо сказала, Оля, любишь – значит живёшь. Спасибо тебе.
Весна выдалась поздняя, в апреле ещё лежал снег, и Ося начала надеяться на погоду. К концу мая снег начал таять. Двадцатого мая поздно вечером Ося возвращалась из административного барака, где рисовала по фотографии портрет жены начлага, его подарок супруге на серебряную свадьбу. Проходя мимо инструменталки, она заметила быструю тень, выскользнувшую из двери и слившуюся со стеной. Инструменталку обычно охраняли, поскольку там лежали топоры и пилы, отданные на заточку и в починку. Ося глянула искоса на сопровождавшего её охранника, тот шёл, втянув голову в поднятый воротник шинели, громко шмыгал простуженным носом. Было похоже, что он ничего не заметил. Любопытная Ося немного замедлила шаг, тень юркнула вдоль стены за угол, пробежала у них за спиной, оставив после себя сильный запах керосина. Конвойный продолжал идти, зевая и шмыгая носом. Дошли до барака, он впустил её и запер дверь. Ося забралась на нары, поразмышляла, кто ворует керосин из инструменталки и зачем, и заснула.
Вечером следующего дня Катерина задержала её в сушилке, сказала: «Готова будь, завтра уходим».
– Как завтра? – испугалась Ося.
– Завтра, завтра. Ограждение Андрей с Василием подкопали, табаку для собак достаточно, кормёжки на неделю хватит, чего ждать-то. Вечером завтра знак подам.
– Нас поймают. Или мы умрём с голоду, так и не найдя этой Озяби. Не делай этого, Катя, погубишь и себя, и людей.
– Людей, – повторила Катерина. – Себя, стало быть, к этим людям не причисляешь?
Ося вздохнула и вышла из сушилки. Девочки сидели на нарах с перепуганным видом, с Лениной койки исчезло разноцветное лоскутное одеяло, с Дашиной – подушка-думка, присланная матерью.
– Собрались? – шёпотом спросила Катерина. Обе кивнули.
– Спите тогда, неизвестно, когда теперь под крышей спать будем, – приказала Катерина.
Назавтра, отработав обычный день, они вернулись в лагерь и обнаружили, что начальство приказало устроить баню. Начлаг смертельно боялся вшей и гонял их на помывку каждые два-три дня. Ося баню терпеть не могла – и потому, что там было грязно и холодно, и потому, что отправляли туда обычно вечером, после работы, за счёт личного времени и сна. Жили они во второй половине барака, и в баню их всегда водили во вторую очередь, так что поспать не получалось ни до, не после. Сидя в полудрёме на нарах, она не слышала шума и воплей на улице и не сразу поняла, почему женщины вокруг засуетились и забегали, забарабанили в дверь.
– Пожар! – крикнула Наташа. – В лагере пожар!
Ося вскочила, подбежала к окну, не смогла разглядеть ничего, кроме неясного зарева. Она подошла к двери, которую с матерным рёвом выбивала компания уголовниц. Дверь, распахивавшаяся внутрь, не выбивалась. А потом внезапно открылась, и перепуганная толпа хлынула на улицу. Ося тоже выскочила, увидела, как бестолково снуют охранники, как катаются по земле полуголые женщины, пытаясь сбить пламя с одежды и волос, и вернулась в барак, повторяя себе: «Это случайность, это просто случайность». Вбежали Даша, Наташа и Катерина, побежали к своей секции. Даша и Наташа схватили свои узлы и снова исчезли в дверном проёме, Катерина приказала:
– Быстрее давай, не копайся. Я пойду посмотрю, где Лена.
– Откуда ты знала, что сегодня будет пожар? – спросила Ося.
– Не знала я. Собирайся.
– Но почему ты решила бежать именно сегодня?
– Андрей так сказал, – нетерпеливо крикнула Катерина. – Собирайся давай!
– Я не пойду, – сказала Ося. – Берите всё, что у меня есть, вот мой узел, но я не пойду.
– Почему?! – крикнула Катерина.
Ося молчала. Невозможно было сказать правду, и невозможно было врать в этом, скорее всего, последнем их разговоре. Катерина дёрнула её за руку, спросила бешеным шёпотом:
– Ты что, умом тронулась?
– Я не хочу всю жизнь прятаться, – закусив губу, сказала Ося. – Я хочу вернуться в Ленинград, к мужу. Иначе получится, что они меня сломали.
– А здесь, на нарах, с урками останешься – значит, не сломали тебя?
– Да, – сказала Ося. – И тебя прошу, пожалуйста, брось ты эту затею. То, что начинается враньём, добром не кончится.
Несколько бесконечных секунд Катерина молчала, потом поклонилась Осе в пол, сказала:
– Спасибо тебе, подружка дорогая, за помощь, за веру, за ласку, больше, видать, не встретимся.
И выбежала из барака. Ося выскочила следом, стаскивая на ходу телогрейку, побежала к горящему санитарному бараку.
2
Первые недели после побега Ося помнила плохо. Каждый день, весь день – в дороге, на лесоповале, в столовой, ночью на нарах – она думала только об одном: случайным был пожар или не случайным, права она или не права. То она была уверена, что ночью у инструменталки видела Андрея, и тогда решала, что права, и ругала Катерину последними словами. То сомнения одолевали её, и она решала, что не права, и теми же словами ругала себя. Норму она опять не выполняла, стремительно превращаясь в доходягу, по рассеянности дважды едва не отрубила себе палец, ни с кем в бараке не общалась, опасаясь расспросов, и очень скучала по друзьям.