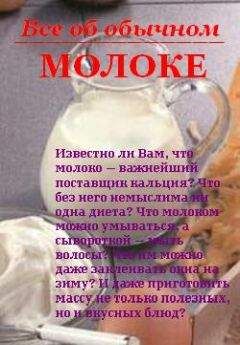Кейт Мортон - Далекие часы
Она могла поступить проще: выбрать подходящего мужчину, влюбиться в него, позволить открыто ухаживать за собой без риска подвергнуть свою семью насмешкам, но любовь слепа, как Перси поняла по собственному опыту. Любви нет дела до осуждения общества, классовой структуры, пристойности или простого здравого смысла. И как бы Перси ни кичилась своим прагматизмом, устоять перед зовом любви оказалось не проще, чем перестать дышать. И она покорилась, обрекла себя на жизнь, полную брошенных искоса взглядов, тайных писем и редких блаженных свиданий.
Щеки Перси раскраснелись за время прогулки; неудивительно, что она так сопереживала юным любовникам. Она опустила голову и уткнулась в усыпанную листьями землю, не обращая внимания на встречных, пока не добралась до обочины дороги, где села на велосипед и покатила в деревню. По пути она гадала, как стало возможным, что гигантская мясорубка войны пришла в действие, а мир остался таким же прекрасным, птицы по-прежнему поют среди ветвей, цветы растут на полях и сердца влюбленных полны любви.
Мередит впервые захотелось пописать, когда они еще не выехали из серых и закопченных зданий Лондона. Она стиснула ноги и прижала чемодан к коленям, гадая, куда именно они направляются и сколько времени это займет. Она была липкой и усталой и уже съела весь пакет бутербродов с вареньем, приготовленный на обед, так что была не голодна, но страдала от скуки и неуверенности. Мередит точно помнила, что видела, как утром мама засунула в чемодан фунт шоколадного печенья. Девочка отщелкнула замки и приподняла крышку. Заглянула в темное нутро чемодана и запустила в него руки. Конечно, она могла откинуть крышку до конца, но не стоило беспокоить Риту резкими движениями.
Вот пальто, которое мама дошивала вечерами; немного левее — банка сгущенного молока «Карнейшн», которое Мередит строго-настрого наказали подарить хозяевам по прибытии; за ним полдюжины толстых махровых полотенец. Мама засунула их в чемодан и пояснила, заставив Мередит съежиться от смущения: «Не исключено, что ты станешь взрослой девушкой во время эвакуации, Мерри. Рита будет рядом и поможет, но ты должна быть готова». Рита усмехнулась, а Мередит содрогнулась и робко понадеялась, что станет редким биологическим исключением. Она провела пальцами по гладкой обложке блокнота и… вуаля! Под ним оказался бумажный пакет с печеньем. Шоколад немного подтаял, но ей удалось отлепить одну штуку. Отвернувшись от Риты, она принялась обкусывать добычу.
За спиной один из мальчиков затянул знакомый стишок:
Под развесистым каштаном
Чемберлен мне говорит:
Чтоб ходить в противогазе,
В меры ПВО вступи!
Мередит опустила глаза на свой противогаз. Она засунула остатки печенья в рот и смахнула крошки с коробки. Дурацкая штука с кошмарным резиновым запахом, которую так противно отдирать от кожи. Мама взяла с них обещание надевать противогазы во время отъезда, носить их повсюду с собой, и Мередит, Эд и Рита нехотя согласились. Позже Мередит подслушала, как мама признается соседке, миссис Пол, что лучше умереть во время газовой атаки, чем задыхаться в противогазе, и девочка решила «потерять» свой при первой же возможности.
Люди стояли на крохотных задних двориках и махали проносящемуся мимо поезду. Внезапно Рита ущипнула ее за руку.
— Ты что? — пискнула Мередит; она хлопнула себя по больному месту и стала яростно его растирать.
— Все эти милые люди надеются увидеть представление. — Рита дернула головой в сторону окна. — Будь душкой, Мерри, порыдай немного для них.
В конце концов город остался позади, вокруг разлилась зелень. Поезд грохотал по рельсам, время от времени притормаживая на станциях, но все таблички были убраны, так что нельзя было понять, где они едут. Должно быть, Мередит задремала, поскольку поезд внезапно со скрежетом остановился, и она рывком проснулась. Ничего нового за окнами не было, только зеленые купы деревьев на горизонте да редкие птицы, пронзающие ясное синее небо. На одно короткое счастливое мгновение Мередит обрадовалась, что сейчас они развернутся обратно к дому. Что Германия уже признала: с Британией шутки плохи: что война закончилась и эвакуироваться больше не нужно.
Но это было не так. После очередного продолжительного ожидания, во время которого Рой Стэнли умудрился вытошнить в окно еще немного консервированных ананасов, всех вывели из вагона и велели построиться. Каждому вкатили укол, проверили волосы в поисках вшей и снова отправили в вагон, чтобы продолжить путь. Даже не дали сходить в туалет.
После этого в поезде на некоторое время воцарилась тишина; даже малыши чересчур устали для слез. Они ехали и ехали, казалось, не один час, и Мередит начала задумываться, насколько велика Англия, когда же они наконец достигнут утесов, если вообще достигнут. Ей пришло в голову, что все это на самом деле гигантский заговор, что машинист — немец и все это — часть дьявольского плана побега с английскими детьми. Теория была несовершенной, в ее логике зияли пробелы — например, зачем Гитлеру тысячи новых граждан, на которых нельзя положиться даже в отношении сухости постелей, — но к этому времени Мередит слишком устала, слишком хотела писать и была слишком несчастна, чтобы эти пробелы заполнить, так что еще сильнее стиснула ноги и стала считать поля за окном. Поля, поля, поля, за которыми лежало неведомо что и неведомо где.
У каждого дома есть сердце — сердце, которое любит, сердце, которое полнится довольством, сердце, которое разбивается. Сердце Майлдерхерста было больше обычного и билось мощнее. Оно колотилось и замирало, спешило и медлило в маленькой комнатке на вершине башни. Комнатке, в которой прапра… прадед Раймонда Блайта корпел над сонетами в честь королевы Елизаветы; из которой его двоюродная бабка убегала на сладкие свидания с лордом Байроном; кирпичного подоконника которой коснулся башмачок его матери, когда она выбросилась из бойницы навстречу смерти в согретый солнцем ров, а ее последнее стихотворение слетело следом на листке тонкой бумаги.
Стоя у огромного дубового стола, Раймонд набивал трубку свежим табаком. После смерти его младшего брата Тимоти мать заперлась в этой комнате, окутанная черным пламенем печали. Он мельком видел ее у окна, когда спускался в грот, гулял по саду или опушке леса: темный силуэт маленькой аккуратной головки, глядящей на поля и озеро, профиль слоновой кости, безумно похожий на профиль на броши, которую она носила, унаследованной ею от матери, французской графини, с которой Раймонд никогда не встречался. Порой он проводил на улице весь день, носясь между плетями хмеля, взбираясь на крышу амбара в надежде, что мать заметит его, встревожится, велит спуститься. Однако она так и не заметила. Одна лишь няня окликала его на исходе дня.