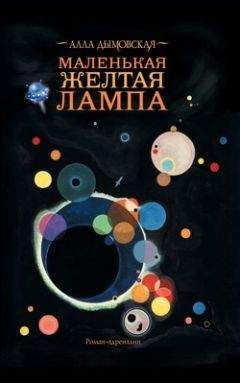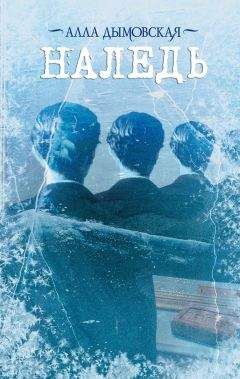Алла Дымовская - Рулетка еврейского квартала
Рая Полянская громко очень закашлялась за столом, пытаясь перебить бестактность, но кто же мог одолеть старого Азбеля, когда тот непременно хотел сделать другому язву.
– Раечка, выпей еще компоту. Так что же, Соня? Говорят, твой дядя Кадик чуть ли не самый настоящий лаборант в тамошнем университете? – захихикал Азбель, даже густые белые его брови заплясали от смеха. – Это шикарная карьера, очень удачная, очень!
И Моисей Абрамович закудахтал, заклокотал горлом, ему было невероятно весело. Но его забаву поддержала лишь его же собственная жена. Да еще загоготал Киприади, вообще не поняв, в чем дело и почему смешно быть лаборантом в Америке.
– Я не знаю, Моисей Абрамович. Бабушка мне не пишет, – честно ответила Соня и только потом поняла, что наделала.
– Так-таки и не пишет! Ну, еще бы! О чем писать-то, о том, как Фира с сыночком надули собственную семейку, а сами и остались в дураках! Да, в дураках! Что же, Бог, он есть и все до капельки видит! Так, Сонечка? – юродствовал дальше Моисей Абрамович.
Но Соня ничего не смогла понять из его намеков, хотя о многом догадывалась. Но не сейчас же выходило нужным это обсуждать. Однако Азбель и не думал уняться:
– А с синагогой-то, с синагогой! Каково! Я знал тут одного Фуркина, а тот в свою очередь ихнего ребе Григоровича, надо сказать вам, еще того «гимпеля» в одном интимном еврейском месте. Так этот Фуркин рассказывал мне, что когда Григорович из милосердных чувств, заметьте, так и сказал, предложил нашей Фирочке сытное место торговки в его кошерной коммерции…
– Мотя, побойся ты Бога, не при детях! Сам же сказал, ОН все видит! – оборвала тут Азбеля очень гневно Раечка Полянская.
Моисей Абрамович заткнулся, но было видно, что с трудом и ему все равно неймется. Однако положение спас Киприади, затеявший новый анекдот «о руссе, армяке и грузиане». Интерес столовников само собой как бы отвлекся в сторону, а у Сони выпал шанс. Ей очень сделалось интересно, что же такого рассказал Моисею Абрамовичу этот неведомый Фуркин, но расспрашивать лично противного старикана Соне не хотелось. И она попыталась поймать взглядом внимание Раи Полянской, вдруг сумеет подать знак. Уж очень нужно было расспросить.
Раечка скоро заметила необычную Сонину настойчивость и показала только глазами – выйди вслед за мной, и поднялась с извинением из-за стола. Никто ее ухода особенно не отметил, потому что Киприади как раз перешел к повествованию о том, как «хохлоп коммерцовал свинячий салос». За Раечкой спустя некоторое время встала и Соня. Немного заблудилась по квартире, но отыскала Полянскую в полутемном, не допускавшем внешних шумов репетиционном кабинете дяди Юзи.
– Тетечка Раечка, – так к единственной обращалась к Полянской бедная Соня, но не от фамильярности. А просто Раечка это от Сони любила и сама настаивала. – Тетечка Раечка, вы же что-то знаете такое. Так как же вас умолять, чтобы вы рассказали?
– Да к чему тебе, деточка моя? Мало у тебя своих воспоминаний, так зачем еще чужие гири? – на всякий случай попыталась отвратить ее от расспросов Полянская.
– Это очень долго объяснять! И сначала надо, а не так, на ходу. Ну, пожалейте меня, хотя бы ради Додика! – неожиданно для себя самой сказала Соня.
Но на Полянскую это произвело впечатление мгновенного удара током.
– И имени этого не поминай. И для твоего, и для моего покоя. Да и какая тут жалость, детка? Тебе только от моих слов хуже и будет, – предостерегла ее Раечка.
– Пусть хуже. Только я не могу этого вынести, чтобы не знать. Или вы думаете, я права не имею? Так скажите мне прямо.
– Ты-то как раз и имеешь. Может, побольше иных. Ну уж, пускай, – решилась Полянская.
И вот что рассказала Раечка. Про бабушкин отъезд и нынешнее житье-бытье в Америке. Деньги и ценности, какие обещал Юзя передать через посольство по знакомству и за мзду, хоть и с некоторым нарушением законности, до адресата дошли вполне. Даже и чашки не разбилось. О том, чтобы вернуть Полянским затраченные на взятки средства, бабушка и не заикнулась. А Юзя плюнул да растер. Не то чтобы Раечка сейчас этим попрекала Соню, а только то был еврейский непреложный обычай, о денежных обидах сообщать непременно. Так сказать, право священной жалобы.
Дальше все стало еще веселее. Вместо того чтобы спокойно вложить средства в банк и продавать некоторые картины потихоньку, через официальные галереи, пусть и с потерей в комиссионных, Кадик поступил с точностью до наоборот. Велфер им с бабушкой полагался небольшой, однако помощь от общины позволяла снять недорогую квартирку. Затем Кадик уговорил бабушку потерпеть и довериться его коммерческому гению и немедленно ударился в спекуляции. Он считал себя умнее всех в этой Америке, стране недалекой и с кучей возможностей прямо под ногами. Опасался Кадик только собственных соотечественников и потому дел с ними не счел возможным иметь. Эти же «простодушные» коренные американцы, на которых была вся его надежда, те же босяки эмигранты, только в третьем и четвертом поколении, и просадили все Кадиковы наличные денежки за каких-то полгода на аферах с сомнительными акциями. А Кадику достался голый ноль. Но скверный дурачок и тогда еще ничего не понял своим утлым умишком. А стал продавать картины. И не по одной, а сразу на опт, чтобы выручить сумму покрупнее и опять приняться за спекуляции на бирже, теперь уже самому, не слушаясь ничьих советов. Только до акций на сей раз дело не дошло. Потому что задним местом мудрый Кадик даже не додумался те картины застраховать. А так и отдал их все, до единой, под пустую расписку солидному дядьке-посреднику с чисто арийской внешностью и истинно здешней фамилией Томпсон, который и пообещал ему взамен оптового клиента. Только картины надо перевезти к нему в офис, чтобы создать достойное впечатление. Не в их же скромной квартире те полотна показывать. Тогда большой цены не видать, как своих ушей. Кадик и перевез, да еще за свой счет. Взял расписку и стал ждать завтрашнего дня. А за ночь тот офис, скромное полускладское помещение в Бронксе, само собой, «сгорел до основанья». И претензий к Томпсону не могло быть никаких, от расписки он и не думал отказываться. Да, давал, но склад-то сгорел, можете жаловаться. Кадик кинулся в участок. Однако, узнав с первых же его слов, что имущество было не застраховано, полицейские немедленно утратили к делу интерес и указали беззащитному эмигранту на дверь. Теперь у незадачливого капиталиста оставался последний козырь в виде серебряной и фарфоровой драгоценной посуды и нескольких особо редких книг. Тут уж Кадику пришлось умолять бабку на коленях. Он ныл слезно и обещал поправить немедленно их благосостояние, смотреть в оба глаза, пропасть самому и запродать душу, но сделать кучу денег для матери. Бабушке очень польстило, что Кадик в первую очередь старается исключительно ради ее достойной старости, и бабка позволила взять из дому последнее имущество. И Кадик, получив бабкино разрешение, стал искать покупателей сам. Только здесь ему был Нью-Йорк, мировой мегаполис, возведший массовую преступность в эталон отношений, по сравнению с которым в плане уличных и средней руки грабежей Москва выглядела Ново-Афонским монастырем в недели Великого Поста. Слух о его намерении продать и о показанных на людях образцах рукотворного, дорогого антиквариата разошелся по округе быстро. Кто это сделал и откуда получил наводку, Гингольды так и не дознались никогда. А только когда бабушка и Кадик как-то вечером вернулись от родственников своих Хацкелевичей, квартира их оказалась стерильно пуста от ценностей. Налетчики не только унесли прочь посуду и книги, но и личные бабкины украшения, которые никто продавать не собирался, да еще каракулевую шубу, кожаное пальто Кадика и напольные старинные часы, семейную реликвию. Оставили только древний будуарный столик-бюро сандалового дерева, дрянной телевизор, бабушкин старинный комод, зеркальную горку в стиле «ампир» и кучу обувной грязи на полу. У бабушки немедленно случился истерический припадок, а у дяди Кадика – настоящий запой на последние деньги, оставшиеся от недавнего пособия. Тут уж пришлось заглянуть в глаза американским реалиям и по-настоящему искать средства к существованию. Что оказалось само по себе непросто.
За все то короткое относительно время, что Гингольды прожили в Нью-Йорке, они умудрились восстановить против себя немалую кучу народа. Собственно говоря, водились с ними одни только Хацкелевичи, Натан и Роза. И то потому лишь, что Натан приходился бабушке двоюродным братом и где-то в закоулках души еще продолжал благоговеть перед московской сестрой, настоящей генеральшей. Но даже и у Хацкелевичей терпение с эдакими-то родственничками было на исходе. Про остальных местных аидов нечего было и говорить. Да и кто же станет тебе сочувствовать, коли допрежь ты исправно плевал людям в лицо свысока и держался меж ними, словно богач-плантатор среди негритянских хибар. Потому на несчастья Гингольдов только позлорадствовали. Не то оказался ребе Григорович, как выяснилось, порядочный, хоть и весьма суровый в вере человек. Рая Полянская много о нем слышала, и больше хорошего, когда с мужем была на гастролях в Мэдисон-сквер, но лично так и не познакомилась. Вот ребе Григорович и пришел, единственный, на помощь бабушке и Кадику. Хотя нет. Не вполне единственный. Брат Натан еще раньше предложил племяннику поработать в его кар-сервисе, благо тот все же инженер, а там со временем выучится на знающего механика и может даже войти в дело компаньоном. Надо ли объяснять, что Гингольды с плевками негодования то предложение отвергли, да еще оскорбили бедного Натана почем зря. И если бы не тетя Роза, смешливая и очень благодушная женщина, дело бы завершилось родственным разводом. Но Роза только и сказала, что все Гингольды «ены мишигинэ», а Кадик совсем «герутене», такой безрукий, что уж лучше и спасительнее для их кар-сервиса, что он, слава пророку Моисею, отказался. И пусть себе родственнички орут и возмущаются, соседи только больше станут уважать Хацкелевичей за долготерпение и, может, Натана за кротость души изберут синагогальным старостой.