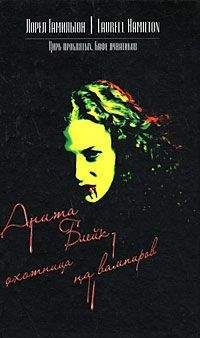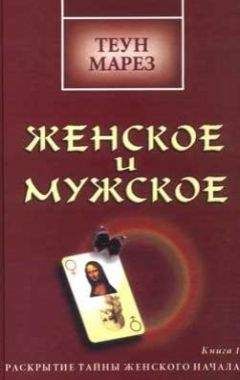Александр Архангельский - Музей революции
Он привычно просунул руку сквозь прорезь в карман — карман был безупречно пуст. Порылся в другом — ничего. Народ беспрекословно ждал, а епископ испуганно шарил в карманах, как третьеклассник, потерявший ключи. Потому что с ужасом осознавал, что молитва взяла — и забылась. Въевшиеся, вросшие в него слова отслоились от старческой памяти. Продолжая излучать величие, Петр сурово посмотрел на Подсевакина, и надежный секретарь не столько понял, сколько ощутил, в чем дело. Бежать в алтарь, искать молитвенник — долго, народ начнет шушукаться, исчезнет правильный настрой; в голове у Подсевакина сверкнула мысль: он вытащил блескучий телефон, подарок губернатора на юбилей (сам владыка телефоном пользоваться не умел, так что отдал в доверительное управление секретарю), одним движением набрал в поисковой системе запрос. Экран покрылся буквами, похожими на угревую сыпь. Ярослав протянул телефон Вершигоре.
— Это что еще такое? — беззвучно, одними губами спросил Вершигора
— Требник, — прошелестел Подсевакин, и сделал странное движение пальцами; буквы плавно увеличились, и Петр подумал, что наконец-то понял выражение «по мановению руки».
Он опустил глаза в экран, и возгласил смущенно:
«Господь наш Иисус Христос Божественною Своею благодатию, даром же и властию, данною святым Его учеником и апостолом, во еже вязати и решити грехи человеков, рек им: приимите Духа Святаго…»
Экран немного бликует, но в целом, как ни странно, буковки все так же стекаются в слова, слова вытягиваются в предложения, а из них сплетается молитва. Только палец Подсевакина мешает; он то и дело подвигает текст. С каждым годом Петр все ближе подпускает к сердцу слова про человеческую немощь и про то счастливое забвение, которому на небесах все это «предаде»; надо бы служить похолоднее, по-монашески, но епископ Петр похолодней не может.
Ну вот и дело сделано.
Владыка взял из рук отца Бориса маленький кулек и посыпал из кулька песком на тело Валентины, вложил ей в руки бумажку с красно-черными резными буквами и блеклой печатной картинкой, похожую на старый пропуск в государственное учреждение, предложил родным и близким попрощаться с покойной. Тамара Тимофеевна прямым, как стрелка, голосом, затянула про вечную память. Быстро-быстро застучали молоточки. Кандальное позвякивание кадила, горячий, сладко пахнущий туман, и сквозь него текут живые голоса…
И тут уж Теодор не совладал. Он зарыдал, как маленький: ыыыааааа. (Какое унижение! Как стыдно!) И опять ыыыааааа. К нему подбежали Галина, племянники, стали обнимать и гладить, он больше не хотел их презирать, не такие уж они плохие.
Валенька, прости меня, прости, и вечная тебе память!
Четвертая глава
1
Влада.
Молчок.
Ну Влааада.
Молчок.
Ты где.
Так она ему и не ответила. Ни разу. Ее скайп обесточен, мобильный за пределами сети, на домашнем крутится автоответчик, раздается гавкающий голос Старобахина, здравствуйте — не можем — говорите после длинных. Каждую свободную минуту Саларьев вспоминал о Владе, слышал ее нежный запах, представлял, как она накрывает на стол, входит на минуту в кабинет, касается шеи губами и молча выходит, и все надеялся, что чувство начнет остывать, а оно никак не остывало.
В день прилета Тата встретила его растерянно; она все время куталась в халат, безвольно улыбалась и смотрела в сторону, как смотрит гриппозный больной. Если б он тогда насторожился, заметил взведенный курок, кто знает, сюжет мог развязаться по-другому. Но Павел не почувствовал угрозы, он был слишком возбужден и слишком счастлив; с показным домашним аппетитом уплетал законный ужин, болтал без умолку о шахте, о знакомстве с богом. Нет, ну какой поворот, председатель и кормилец Всероссийского еврейского конгресса — цыганенок! как же Михаил Ханааныч стремался! ладно, Ройтман как-нибудь переживет, зато он дал такой заказ, по сравнению с которым прежние — отстой; мы выходим на всемирный уровень, прикинь?
— Прикинь? Ты сказал — прикинь?
Тата слушала его старательно и, как школьница, кивала головой, хотя по-прежнему косила в сторону. Но прозвучало пошлое словцо, подцепленное Павлом у любимой Влады, и она пошла густыми пятнами, глаза полыхнули кошачьим огнем.
— Да, прикинь, а что такого?
— Такого? Что? Пошел отсюда вон, ты слышишь?
Павел совершенно растерялся.
— Убирайся, говорю, пакуй свои вещички, и вали! Куда хочешь, к кому хочешь, мне все равно, все равно, все равно!
Тата вскочила, сжала кулачки, еще секунда, и польются слезы. Предатель, он ее унизил, сам подтащил к замочной скважине, заставил смотреть и сгорать от стыда! Если бы он просто изменил, она бы, может быть, простила; однако он, как старый сладострастник, вынудил ее подглядывать — за ним же! Подлость, подлость, подлость!
— Ты еще не понял? Квартира — моя, ты тут больше не живешь, иди, моявлада пожалеет, приголубит!
Татьяна верещала, как сорока, визжала так, что было слышно у соседей. И тут он не сдержался. И ударил. С ненавистью, без сожалений. Руки развел, и ладонями больно влепил по ушам. За то, что вошла в его тайну. За приголубит. За моювладу.
И пошел в кабинет, собираться. Руки плохо слушались, как на морозе; он паковал, паковал, паковал, в ярости бросал тюки в машину, возвращался, снова паковал и снова упихивал сумки. Книги, техника, одежда. Татьяна, прекратив визжать, стояла в стороне и наблюдала, то ли со злорадством, то ли потрясенно. Загрузившись, как челночник, под завязку, он помчался по ночной дороге, постоянно перещелкивая станции, только бы не слышать собственные мысли. Вжиу. На корейском полуострове война. И в Иране вот-вот. Мы же вас предупреждали. Вжиу. Арктика должна быть нашей. Шельф. Да, арестованы враги Отечества. Да, они во всем признались. Вжиу. Джазовые композиции в исполнении народного артиста Игоря Бунтмана.
Ярость понемногу остывала, хотя Саларьева по-прежнему трясло; он испытывал двусмысленную радость, как больной после наркоза: ужас операции забыт, наступило чувство облегчения, хочется смеяться, а нельзя, швы отзываются болью. Однажды на питерской выставке знакомый пожилой фотограф в детском малиновом шарфике подвел Саларьева к портрету статной дамы с красивым несчастным лицом, полуобнял, и шепнул на ухо: самое ужасное — годами жить бок о бок с женщиной, которой не решаешься сказать всего четыре слова: я. тебя. не. люблю. Павел воспринял как светское mot. А теперь он понял: это правда.
Доехал, шквально разгрузился и на полной скорости помчал обратно.
Тата все так же сидела в прихожей, белая, как папиросная бумага. Ничего не говоря, он снова загрузил машину; запихнул в багажник ящики с архивом дяди Коли и вертепом, так и сяк пристраивал компьютер, но в конце концов отнес коробку в кабинет: на работе приличная станция, все файлы он хранит в обменнике, так что беды никакой, потом когда-нибудь заедет, заберет. Красным шерстяным шарфом подвязал незакрывающуюся крышку багажника, как подвязывают ноющие зубы. И помчал. К четырем утра добрался до Приютино, и, устроившись на угловом диване, провалился в спасительный сон.
Очнулся тяжело, как с перепою. И в бесполезно-ватном состоянии отправился к любимому директору, в его служебную коморку, пропитанную едким запахом кошатины. Теодор его послушал, хмыкнул; Павлу показалось, что сочувственно. И вдруг в ответ спросил, с полным равнодушием к его проблемам:
— Павел, дорогой мой, понимаю, драма, вместе столько лет, больно. Но все-таки дела делами.
И, прекратив изображать аристократа, Шомер стал взахлеб делиться новостями. Праздник будет первого июня, для Хозяина построят вертолетную площадку, только бы не хлынули дожди, храм теперь останется за ними, но художников придется отселить, их фэсэошники не переносят, нет-нет-нет, и не проси, а мне владыка подарил котенка, видишь, во что превратил когтедралку — молодчага, добросовестно дерет…
А через месяц схоронили Валентину. И Шомер каждый день теперь заходит в церковь. Изображает въедливого контролера: на месте ли у вас, Борис Михайлович, икона номер двести сорок восемь? а потир шестнадцатого века, согласно описи, серебряный с позолотой и тридцатью шестью каменьями? так, хорошо, теперь осмотрим фрески. И тянет, тянет время, хотя на самом деле хочет одного: поскорее завершить проверку и через боковую дверь притвора выбраться во внутренний дворик. Незаметно прошмыгнуть к могиле. Посидеть на скамейке, подумать.
Милый, милый дедушка. Постаревший, горделивый и смешной.
2
Отопление в двадцатых числах отключили; в кабинетике потягивало холодом. Павел включал под столом запрещенную грелку, отодвигал бумаги в сторону и расслабленно глядел в окошко. К полудню заметно теплело; Саларьев заворачивался в плед, настежь распахивал окна и распространялся на широком барском подоконнике. Однажды Шомер, делая обход, заметил его и присвистнул; Павел помахал в ответ, но спрыгивать не стал.