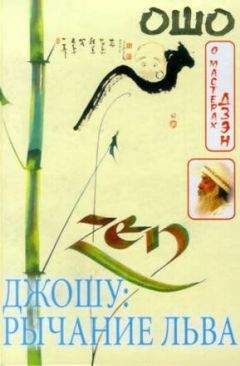Александр Гончар - Тронка
— У него в радиорубке будет на этот случай отдельный передатчик, аварийный, — серьезно объяснил капитан. — В обязательном порядке устанавливаем его согласно международной конвенции. Эта штука включается автоматически. Будем, однако, надеяться, что надобности в ней не возникнет.
— Скажите, рикши еще на свете есть? — спросил Мамайчук так неожиданно, что капитан невольно улыбнулся: так и бросает этого «неуправляемого» от земного ядра до рикш.
— Почему вдруг рикши?..
— Просто не верится, что где-то люди еще ездят на людях. Один двуногий везет на себе другого. И не инвалида, а какого-нибудь паршивого колонизатора…
— Бечак называется такой велосипед, — сказал капитан, и лицо его нахмурилось.
Возможно, вспомнились ему чужие портовые города, стоянки рикш, где эти худые запыленные люди на трехколесных своих велосипедах зорко высматривают пассажиров, с криком бросаются на каждого, за полы хватают…
— На вид такой невинный велосипед с коляской. Но наш советский моряк никогда не сядет в ту коляску.
— Понимаю, — согласился Мамайчук. — Я бы тоже не сел. Но увидите вы там что-нибудь и веселее?
— Увидим еще малолетних грузчиков, что таскают на себе тяжелые корзины с углем в порту. И безработных, роющихся в мусорных ямах. И детей, что, подстелив газету, спят на асфальтах вечерних городов…
— Это уже агитация, кептен.
— Понимай как хочешь.
— Может, там зато хоть бюрократов меньше?
— Не считал. А вот знаю наверняка: очень-очень одиноко, неуютно чувствует себя там человек. Неон чужих витрин не слишком-то греет… Клыкастый, жуткий мир окружает там не одного только рикшу… Пока на ногах — до тех пор ты существуешь. А упадешь — переступят, будто тебя и не было.
— Дух коллективизма — это я признаю, — буркнул Мамайчук. — Это верно, у нас есть. Разрешите употребить ароматическое зелье? — Небрежно бросив на губу сигаретку, он так же небрежно сверкнул перед ней огоньком зажигалки. На правой руке при этом блеснул перстень.
— Женишься? — спросил Дорошенко. Он слышал, будто Гриня тайно уже обручился с Тамарой-зоотехником, которая наконец прогнала своего пьянчугу и живет теперь одна.
— Обязательно, — откликнулся Гриня, — если только скромная моя особа будет признана достойной душевно совершенной женщины. Как, по-вашему, не грех привести поистине прекрасную женщину в хату, где нет холодильника, где по ночам батя-инвалид всхлипывает и скрежещет зубами во сне?
— Веди, — сказал капитан и умолк.
А Гриня вскоре после этого уже перекинулся мыслью на те никогда не виданные им архипелаги, где якобы и ныне люди живут по первобытным законам, не зная испорченности цивилизации, и хоть не имеют холодильников, зато не умеют лгать, лицемерить, убивать, замышлять зло друг против друга.
«К ним, к ним нужно идти человечеству за наукой жизни, — размышлял Мамайчук. — Туда, где под звуки тамтамов наивные дети земли смеются да веселятся и еще не знают, что существует на свете стронций…»
— А ну, стоп!
Это Виталий наклонился к водителю, схватил его за плечо.
И когда Гриня послушно притормозил, Виталий высунулся из машины.
— Что ты?
— Слышите… Тронка где-то звенит.
Гриня был другого мнения:
— Это ветер в траве свистит…
— Нет, тронка.
— Нет, ветер.
— Тронка!
Так и не придя к согласию, они тронулись дальше. А капитан, посмотрев в ту сторону, откуда хлопцу послышался звон тронки, отчетливо увидел в глубине степи на светлеющем горизонте далекую чабанскую фигуру и рельефно-резкие пласты отары у ее ног.
Уже совсем рассвело, когда они прибыли в Лиманское. Остановились у причала, и здесь, при утреннем свете, оказалось, что Гриня начисто выбрит, от бороды и следа не осталось, зато, показывая характер парня, горит на нем стиляжная пурпурная рубашка, из-за которой майору Яцубе еще придется вести баталии.
Всходило солнце, и они смотрели на него.
— Чего приумолк? — Виталий по-дружески обнял Мамайчука. — Может, раскритикуешь и его, это светило?
— Не могу, отроче, не могу. Наоборот, смотрю на это ясное светило и говорю ему: «Свети! Моя критика тебя никогда не коснется… Ибо тут был один такой, все вокруг себя — небесное и земное — раскритиковал, оглянулся: ничего ему не остается».
— Скучно стало? — улыбнулся Дорошенко.
— Да, скучно. Оглянулся — то не так, это не так, а что же так? На Солнце — пятна, на Земле — беспорядки. Что же любить? И возвратился он из пустыни своего маловерия в степной чабанский совхоз — опору для души искать…
— И нашел?
— Когда вокруг трудятся, что-то творят, кого-то любят, то соответствующие биотоки и тебя захватывают, воздействуют и на тебя. А более всего исцеляет, конечно, любовь! В ней — бог! Целебность! Быть может, в этом и разгадка того, что перед вами сегодня здесь не ущербный нытик, не хлюпик жалкий, а Гриня-монолит, Гриня-цельность, человек, готовый выдержать любые перегрузки жизни.
Прибыли с моря со свежим уловом рыбаки, начали выходить на берег в своих зюйдвестках, в тяжелых рыбацких сапогах.
Старшой рыбак — мужчина богатырского роста — не спеша направился к капитану, протянул руку:
— Очковтиратель Сухомлин.
И не смеется. Полнощекий, зарос рыжей щетиной, и только по лукавым искоркам глаз, сверкающих под кустами бровей, Дорошенко узнает своего давнишнего приятеля, неистощимого в выдумках Тимофея Сухомлина. Много лет работал он директором винодельческого совхоза, звезду Героя Социалистического Труда получил, а теперь вот, пожалуйста, в зюйдвестке, в ботфортах рыбацких, увязающих в песке. Рыбой и морем пахнет.
— Бычков, говоришь, полавливаете? — весело щурится Дорошенко, пожимая руку бывшему однокашнику своему.
— Тружусь, — басит Сухомлин. — Честно ловлю рыбку для всех граждан Советского Союза.
— Славные кнуты, — рассматривает Дорошенко крупных бычков свежего улова. — Поохотился бы с вами и я.
— Так за чем остановка? Милости просим!
— В другой раз… Пойду вот — поплаваю еще.
— Недоплавал? А мороз на висках?
— Одно другому не мешает.
— А я бы на твоем месте… Ну куда тебе отсюда: смотри, какая благодать! Лиманы, косы, острова…
— Тихая, безветренная заводь, — иронически бросает Мамайчук, стоящий у машины, скрестив ноги.
— А что ж, если и заводь? — насторожился Сухомлин.
— Для кого заводь, а для кого берег Мирового океана, — поворачивается к Сухомлину спиной Мамайчук, пламенея на весь берег кумачом своей рубашки.
Дорошенко окидывает взором простор лимана, живой блеск воды, ее свежее дыхание. В самом деле, хорошо здесь. И белые пески берегов, и эта неизмеримая тишина, и ласковый степной ветерок. Как в прикосновении женской руки, есть что-то невыразимо нежное для него в этих бризах, освежающих ветерках, что дуют днем с моря, а ночью с суши и словно бы соединяют в вечном круговороте море и степи. Но с чем сравнить те дали, уходящие за горизонт, что так манят к себе и вызывают такой взлет души! Да, это только берег Великого океана, родной причал, откуда слышен зов просторов, странствий, беспокойных дорог, зов, который, кажется, и со смертного одра поднял бы Дорошенко. Еще в океан, еще один рейс, даже если он и окажется твоей лебединой песней…
— Вот так… Сообразим ушицу, — приговаривает Сухомлин, выбирая наилучших бычков-кнутов, лоснящихся в корзинах, уже на битом льду. Затем, отойдя в сторонку, принимается устанавливать треноги, разводить костер.
Пока рыбаки выгружают оставшуюся рыбу, развешивают на кольях мокрые сети, Дорошенко подходит к Сухомлину и, присев, начинает вместе с ним чистить кнутов.
— Ну расскажи, как же это случилось? — спрашивает он Сухомлина. — Как это ты в очковтиратели угодил?
Сухомлин спокойно воспринимает вопрос. Неторопливо скобля рыбину, обстоятельно начинает рассказывать про то, как на автомобильных шинах погорел, на тех шинах, что незаконно закупил было целый контейнер где-то на сибирской новостройке; потом насмешливо, словно бы издеваясь над собой, рассказывает притчу о виноградарском комсомольско-молодежном звене, которым он на совещаниях козырял, хотя это звено состояло в основном из таких комсомолок, у которых уже и внуки были…
— Вот так я жил. Таким был. Только здесь и почувствовал себя человеком, Иван… Ты не можешь себе представить, что это значит — быть директором, да еще винсовхоза. Сколько тех дегустаторов на свете! Едут отсюда, едут оттуда, ведешь их в подвалы, угощаешь, а кое-кто еще и канистру подсовывает — налей, дескать, и домой! А потом на всех активах тебя же еще и дерут как Сидорову козу! Круглый год штурмы, авралы, нагоняи, с каждого совещания возвращаешься в синяках, — бывало, влепят выговор за здорово живешь. И это жизнь?
— Но ведь и Героя все-таки дали?
— Какой из меня герой? За что? Разве за телефонные звонки, что их годами выдерживал? На квартире у меня, как и положено директору, телефон. И все звонки — из бригад ли, из района, милиции или «Заготскота», — все ко мне! Ни днем, ни ночью покоя нет. Подымают, вызывают, накачивают. Дети выросли, я их почти не видел. Книги некогда было прочесть. Вот здесь, в рыбартели, как стал работать сторожем, — только и начитался вдоволь. Летом, пока охранял рыбацкую хату вон там в заливе, целый университет прошел. За столько лет впервые над своей жизнью задумался. «Да неужели же, думаю, это мы, степняки, потомки могучих антов Поднепровья, становимся очковтирателями? А? Неужели ж это ты, товарищ Сухомлин, совесть на медальку променял?» Как пошло разоблачение очковтирателей, повез я медаль в райком, хотел сдать. «Сам, говорю, сдаю, не по совести получена». Не приняли. «Носи, говорят, на здоровье, раз уж дали. Ведь не совсем же она замагарычена — ты все-таки как вол трудился…» Есть очковтиратели злостные, непримиримые, что и сейчас еще злятся, а я, поверь, Иван, искренне сегодня говорю спасибо тем, кто вывел меня на путь праведный. Да разве только меня? Как после градобоя колоски на ниве поднимаются, так нынче поднимаются, отходят душой люди после того, что было. Лишь который уж вовсе сломан, тот так и останется лежать, затоптанный в грязь. Веришь, душою поздоровел. Даже сам теперь удивляюсь: как мог до такого позора, до приписок докатиться. Рядовое винхозяйство, а сколько шуму вокруг него — это же даром не дается… До того дошел было, что в районе по квартирам с бутылкой бегал, в чайной всяких пустобрехов поил да угощал, чтобы только славу добыть. А что в ней, в славе? Как-то в городе в галерее картину видел: старикан вот этакий, как я, только босой, гол-голехонек и с крыльями на спине. Куда-то мчится. Долго прикидывал я, покуда догадался, что это намек, аллегория, что это так намалевано Время. Потому что Время старое и Время летит как на крыльях. Кресты, ордена, медали перед ним кучею на земле, и тот крылатый дед безжалостно топчет, попирает их босой своей ногою: слава для него ничто. Топчет кучу монет, всяких там динариев, потому как и богатство для него тоже ничего не значит. Бережно прижимает к груди лишь книгу, на которой написано: «Истина». Истина — только она, брат, для него дорога! Всего дороже!