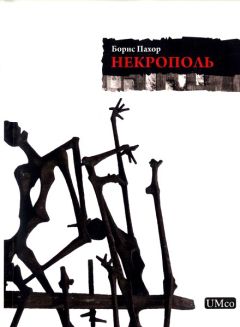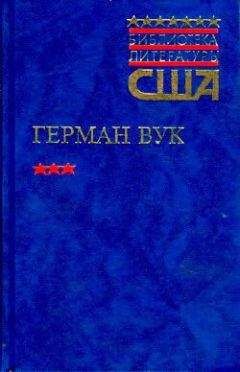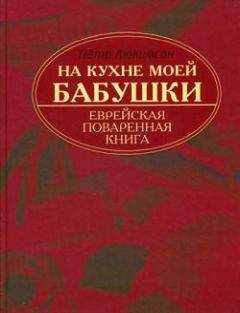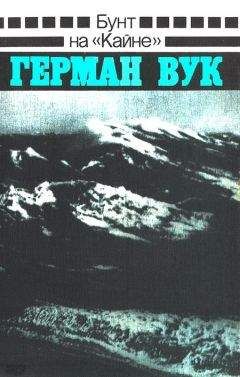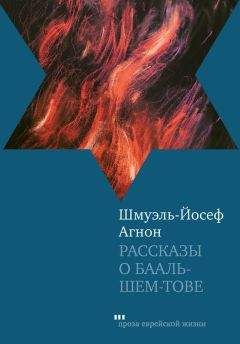Герман Вук - Внутри, вовне
— Мы пошли послушать Куота, — возразил его сын, — точно так же, как мы пошли бы посмотреть двухголовую лошадь или какое-нибудь другое чудовище. Для разнообразия. По крайней мере, его еврейство его беспокоит. Это живой нерв, а не омертвелый, как твой. Мы все это уже когда-то обсудили. Скажи раз и навсегда — на чем ты стоишь? Ты презираешь Питера Куота, который рассказывает о том, что такое быть американским евреем, без роду, без племени. Ты думаешь, что религия Дэвида Гудкинда — это ветхозаветное ископаемое. Ты называешь сионизм обреченным возвратом к племенному национализму. Но чего же ты, в конце концов, хочешь от евреев? Чтобы они построили газовые камеры и сами в них пошли?
— Может быть, чтобы они позабыли обо всем этом, — ответил Марк, — и стали как все люди.
— То есть ассимилировались? — спросил Нахум Ландау. — Блестящая идея. Очень удалась в Германии. — Он зевнул. — Кстати, Мойше, мы сегодня возвращаемся в Хайфу?
— Вы с ума сошли! — сказал Дуду. — У меня для вас на завтра назначена встреча.
Уходя, Эйб не обменялся больше ни словом со своим отцом. Мы с Сандрой пошли к домику, где она жила вместе с несколькими доброволками из Канады. На прощание она выдала мне совершенно неожиданную новость — в своей обычной бесцеремонной манере. Я вернулся к машине Эйба один.
— А где ваша дочь? — спросил он.
— Она остается.
* * *
Во время долгого пути в Тель-Авив я рассказал Эйбу, что я пишу книгу и что его фраза о поедании экскрементов на Уоллстрит, возможно, стала для этой книги отправной точкой.
— Я бы охотно прочел вашу книгу, — сказал Эйб. — Может быть, я дал толчок к созданию литературного шедевра.
— Я стараюсь описать тех американских евреев, которых я знаю. Они, может быть, не очень похожи на персонажей, которых описывают писатели куотовской школы, как выражается ваш отец.
— Послушайте, я же его Питером Куотом просто дразнил. Впрочем, Куот, может быть, лучше всех этих университетских нытиков. Ему уже и самому обрыдли его вечные сексуально озабоченные шлемазелы, которые без конца суют всем в нос свое еврейство. Но иногда он действительно бывает чертовски остроумен.
— Он всегда был остроумен, — ответил я. — Как-то я сказал ему, что, может быть, сейчас, когда прошло не так уж много времени после Катастрофы, еще рановато так вот выставлять евреев на посмешище. Я сказал: «Мы еще только стали на одно колено, у нас еще идет кровь из носа, дай нам шанс».
— Ну, и что он ответил? — оживившись, спросил Эйб.
— Что когда художник начинает так думать, он перестает быть художником. Так что я заткнулся, и мы больше об этом не разговаривали.
Чтобы скоротать долгую дорогу, я стал расспрашивать Эйба, что же все-таки побудило его переехать в Израиль. По его словам, первым откровением была для него встреча в Нью-Йорке с генералом Левом сразу после Шестидневной войны. Кроме того, на него оказал влияние его дед, отец Марка, хотя Эйб познакомился с ним только тогда, когда уже был студентом. Этот дед тоже поссорился со своим сыном Марком, как Марк с Эйбом. Это у них, должно быть, семейное.
Когда, уже далеко затемно, Эйб остановился у стоянки такси в Тель-Авиве, он сказал:
— Интересно, может быть, Сандра просто не захотела ехать вместе со мной? Нужно завтра выяснить.
— Не делайте глупостей. Она едет в Хайфу слушать лекцию Нахума Ландау о взглядах ястребов. Как она сказала, хочет выслушать другую сторону. Кроме того, в Сдэ-Шаломе кончается сбор апельсинов, и она не хочет филонить. Она там будет еще две недели.
— Что это у нее семь пятниц на неделе?
— Такая уж у меня девочка, — ответил я, вылезая из машины. — Спасибо, что подбросили.
— Она самая чудесная девушка, какую я встречал, — сказал Эйб озабоченно. — Она совершенно поразительна. Просто голова кругом. Когда она хочет, она ужасно красива и чертовски мила. Но, Боже правый, у нее такая каша в голове! Где вы были, когда она росла?
— Вот что я вам скажу, Эйб, — ответил я, облокотившись об открытое окно машины. — В нашу пору быть еврейским отцом ох как непросто. Запомните это.
— Вот как? А я, значит, тоже из куотовской школы?
— Вы — нет. Вы — здесь. Я давно уже сказал вам, что я вам завидую. Это и теперь так.
— Ну, так вот что я вам скажу, — ответил Эйб. — Легче легкого — сидеть на Уолл-стрит и завидовать мне, который сидит на улице Ибн-Габироль. Вы тоже это запомните.
— Вы имеете в виду, — сказал я, — что я американский еврей? Это так, я и не отрицаю.
Он крепко пожал мне руку.
— Шалом, шалом! — сказал он и отъехал. По дороге в Иерусалим я все время спал в такси.
* * *
Так прошла моя поездка в Сдэ-Шалом. Скоро я снова окунусь в аэропортовое сумасшествие и полечу домой — один. Без Сандры. Я уже попрощался с мамой, которая довольно бодро себя чувствует, учитывая все, что с ней произошло. Сейчас она легла немного поспать.
— Скажи президенту, чтоб хорошо относился к Израилю, — сказала она сонным голосом, когда я уходил, — и Бог хорошо отнесется к нему.
Мой самолет отправляется через четыре часа. Такси уже заказано. В аэропорт нужно прибыть очень загодя — для личного обыска и осмотра багажа. Израильтяне ведут себя при этом очень учтиво, но у вас почти нет шансов пронести с собой в самолете компании «Эль-Аль» даже перочинный ножик, не говоря уж о бомбе или гранате. Это лишний раз напоминает вам, что Израиль находится в состоянии войны со всеми странами, с которыми он граничит. Эйб Герц прав: это совершенно не видно, если вы сидите в тель-авивском «Хилтоне», где холеные американцы потягивают превосходное израильское красное вино и уплетают кошерные ростбифы из канзасской говядины, или если вы поднимаетесь на гору Синай, или даже если посещаете Иерихон, Хеврон и Шхем — места, в которых евреи не сумели создать свои поселения несколько лет назад. Когда вы ходите, глядя на спокойных, неподвижных арабов, они все еще кажутся туристскими достопримечательностями, хотя в последнее время я при этом чувствовал себя слегка неуютно.
Сейчас я сижу при полном параде — в костюме и при галстуке — на балконе своего номера, выходящего на Старый Город, и жду заказанного такси. На рассвете я, поспав час или два, пошел помолиться у Западной Стены. Даже в такую рань на обратном пути, на подъеме через арабский базар, я весь взмок. Как мирно ни выглядят арабские торговцы, мне всегда среди них немного тревожно. Потом я проделал небольшую прогулку по новому Иерусалиму — по религиозному кварталу под названием Геула, что значит «искупление». Когда я шел мимо небольших лавочек и лотков со съестным, я вдруг задним умом понял, почему мне нравятся такие прогулки. Для меня Иерусалим — это Олдэс-стрит. Никак иначе мне это не выразить, даже если написать тысячу слов. Для меня Иерусалим — это Олдэс-стрит. Некоторым образом, он — то же самое для очень многих людей на свете, и в этом, может быть, отчасти — его беда. Или одна из его бед.
Вернувшись в отель, я принял душ и уложил вещи. Куостовские гранки — уже в чемодане. Мой портфель набит бумагой, которую я исписал за последние две недели, — о моих годах в Колумбийском университете. Итак, шлюзы открыты. Я часами сидел на солнцепеке на этом балконе и сгорел так, что волдырями пошел, пока выплескивал все это на бумагу. Я писал и писал, пока заходящее солнце не окрашивало Старый Город золотым цветом, какого не увидишь больше нигде в мире. Затем я шел и выпивал пару бутылок пива или ужинал с мамой. Затем я снова писал, иногда до глубокой ночи. Больше мне нечего делать — после того как я позаботился о маме и повидался с Голдой, а Сандра пошла своим путем. Я здесь знаком с таким множеством людей, что всего того времени, что я здесь провел, мне не хватило бы даже на то, чтобы обменяться с каждым несколькими словами. Я попросил в канцелярии премьер-министра не сообщать о том, что я был в Иерусалиме, и оказалось, что они умеют держать язык за зубами.
Когда я сегодня утром снова увиделся с Голдой, она была в приподнятом настроении. Она дала мне поручение к президенту и долго говорила о том, что наконец-то Израиль — в полной безопасности по всем границам, от Суэцкого канала до реки Иордан и от Голанских высот до Шарм-аш-Шейха, он непобедим, неприступен и живет в мире, несмотря на формальное состояние войны. Все это верно. Если так будет и дальше, миссис Меир может надеяться остаться в истории как одна из великих матерей Израиля. Но вчера вечером меня несколько встревожило то, что я услышал в Сдэ-Шаломе, а ведь сейчас там моя дочь. Более того, я все еще не забыл майской ложной тревоги и мобилизации.
Я спросил об этом Голду. По ее старому морщинистому лицу пробежала тень. В какой-то момент она выглядела точно как моя мама, которой напомнили о том, о чем ей не хочется говорить.