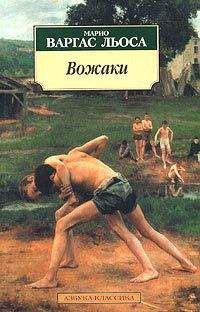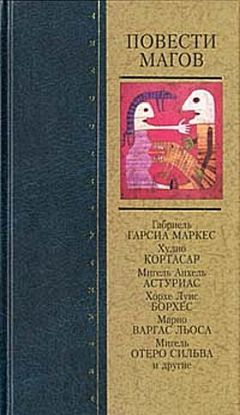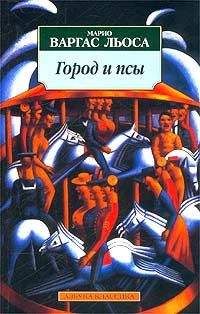Марио Льоса - Зеленый Дом
— Ступайте в церковь, — повторила Лалита. — Вы накличете беду и на себя, и на нее. Зачем вы пришли?
Само собой понятно зачем, сеньора, — и сержант протянул руки к Бонифации, — чтобы повидать свою милую, — а она отбежала — так ему вздумалось, — и так же, как Лалита, сложила крестиком пальцы и сотворила заклинание над сержантом, который, совсем развеселившись, — колдуньи, колдуньи, — хохотал во все горло — если бы мангачи видели этих двух колдуний. Но они не согласятся на это, и дрожащий кулачок матери Анхелики вынырнул из рукава, взлетел в воздух и исчез в складках сутаны: чтоб ноги ее не было в этом доме. Они стояли во дворе, напротив главного здания, а из сада доносились голоса резвившихся девочек. У начальницы был слегка задумчивый вид,
Больше всего она тоскует по вас, мать Анхелика, — сказала Лалита. — Все говорит: я самая счастливая, у меня много матерей, а первой вспоминает свою мамочку Анхелику. Она даже думала, матушка, что вы замолвите за нее словечко перед начальницей.
— Она настоящий бес и способна на любые уловки, — кулачок показался и исчез, — но меня ей больше не улестить. Пусть живет, если хочет, со своим сержантом, но сюда она не войдет.
Почему она не пришла сама, вместо того чтобы посылать тебя? — сказала начальница.
— Она стыдится, матушка, — сказала Лалита. — Она не знала, примете ли вы ее или опять выгоните. Что же из того, что она родилась язычницей, у нее тоже есть гордость. Простите ее, мать, подумайте, ведь она выходит замуж.
Я собирался зайти за вами, сержант, — сказал Ньевес. — Я не знал, что вы здесь.
Лоцман вышел на террасу и оперся о перила рядом с Лалитой. Он был без шляпы, в белых брюках из токуйо, рубашке с длинными рукавами, без воротника, и ботинках на толстой подошве.
Идите же, наконец, — сказала Лалита. — Адриан, сейчас же уведи его.
Лоцман как на ходулях спустился по лестнице. Сержант по-военному отдал честь Лалите и подмигнул Бонифации. Они направились к миссии не по тропинке, вьющейся вдоль берега, а напрямик, по лесистому склону холма. Как себя чувствует сержант? Долго продолжался вчера мальчишник у Паредеса? До двух ночи, и Тяжеловес до того набрался, что бросился в воду одетым, да и он сам, дон Адриан, немножко перехватил. Что-нибудь слышно о лейтенанте? Что это вы все про лейтенанта, дон Адриан? Ничего не известно, наверное, застрял из-за дождей и клянет все на свете. Выходит, ему повезло, что он не остался с ним. Да, пожалуй, он не скоро выберется, говорят, на Сантьяго настоящий потоп. Ну как, между нами, сержант доволен, что женится? Сержант улыбнулся, помолчал, глядя перед собой отсутствующим взглядом, и вдруг хлопнул себя в груды эта женщина запала ему в сердце, потому он и женится на ней.
— Вы поступили как добрый христианин, — сказал Адриан Ньевес. — Здесь парочки по многу лет живут не венчаясь. Монахини и отец Вилансио и так и этак усовещивают их, а они ни в какую. Вы им не чета — сразу ведете ее в церковь, хотя она даже не беременна. Девушка рада-радешенька. Вчера вечером все твердила — я должна быть ему хорошей женой.
— У нас в Пьюре говорят — сердце не обманывает, — сказал сержант. — А мне сердце подсказывает, что она будет хорошей женой, дон Адриан.
Они шли медленно, обходя лужи, но гетры сержанта и брюки лоцмана были уже забрызганы грязью. Кроны деревьев как бы процеживали солнечный свет, и трепещущая листва навевала свежесть. У подножия холма, между реками и лесом, мирно покоилась позлащенная солнцем Сайта-Мария де Ньева. Сержант и Ньевес перемахнули через бугорок и поднялись по каменистой тропинке. Наверху, в дверях часовни, толпились агваруны — женщины с обвислыми грудями, голые дети, мужчины с замкнутыми лицами и густыми гривами волос. При их приближении они подались к краю откоса — посмотреть, кто идет, и расступились, пропуская их. Некоторые ребятишки, что-то лопоча, протягивали руку в надежде на подачку. Прежде чем войти в церковь, сержант обмахнул форму носовым платком и поправил фуражку, а Ньевес отвернул подсученные штанины. В часовне было полно народу, пахло цветами и лампадным маслом, в полумраке блестела, красуясь, как спелый плод, лысина дона Фабио Куэсты. Со своей скамьи он помахал сержанту, и тот поднес руку к козырьку фуражки. Позади губернатора, ради торжественного случая надевшего галстук, сидели Тяжеловес, Малыш, Черномазый и Блондин; они зевали, и лица у них были помятые, а глаза красные. Две скамьи 'занимала чета Паредес и ее бесчисленные отпрыски, умытые и прилизанные. В другом крыле, за решеткой, где полумрак переходил в полную тьму, неотличимые друг от друга в своих серых пыльниках стояли на коленях воспитанницы, и глаза их, походившие на тучу светлячков, с любопытством следили за сержантом, который на цыпочках шел по проходу, пожимая руки присутствующим. Губернатор постучал пальцем по лысине: пусть сержант снимет головной убор, ведь они в церкви. Жандармы улыбнулись, а сержант сорвал с головы фуражку и, пригладив взъерошившиеся волосы, прошел вперед и уселся в первом ряду рядом с лоцманом Ньевесом. Как красиво убрали алтарь, правда? Очень красиво, дон Адриан, славные женщины эти монашки. В кувшинах из красной глины пламенели цветы, и с деревянного распятия свешивались гирлянды орхидей; по обе стороны алтаря до самых стен тянулись в два ряда горшки с высоким папоротником, а пол часовни сверкал чистотой. Прозрачный ароматный дым тонкими струйками поднимался от зажженных светильников и густым облачком плавал под потолком. Вот они, сержант. По часовне пробежал шепот, и все обернулись к двери: вошли невеста и посаженая мать. В туфлях на высоком каблуке Бонифация была не ниже Лалиты. Волосы ее покрывала черная вуаль. Широко раскрытыми глазами она тревожно обегала скамьи, а Лалита шушукалась с Паредесами, и ее цветастое платье оживляло этот уголок часовни, внося в сумрачное благочиние что-то весеннее, жизнерадостное. Дон Фабио наклонился к Бонифации, что-то сказал ей, и она улыбнулась. Бедняжка, на ней лица нет, дон Адриан, как она конфузится. Ничего, потом ее попотчуют, и она повеселеет, сержант, все дело в том, что она умирает от страха — как-то ее встретят монахини, не начнут ли ее бранить. А правда, у нее красивые глаза, дон Адриан? Лоцман приложил палец к губам, и сержант посмотрел на алтарь и перекрестился. Бонифация и Лалита сели рядом с ними, и через минуту Бонифация опустилась на колени и, сложив руки, закрыв глаза, стала молиться, едва шевеля губами. Заскрипела решетка, и в часовню вошли монахини во главе с начальницей. Они по двое подходили к алтарю, преклоняли колени, крестились и тихо направлялись к скамьям. Когда воспитанницы запели, все встали, и вошел отец Вилансио в лиловой сутане, неся на груди свою пышную огненно-рыжую бороду. Начальница стала делать знаки Лалите, указывая на алтарь, а Бонифация все еще стояла на коленях, вытирая глаза вуалью. Потом она встала и между сержантом и Ньевесом пошла к алтарю, держась очень прямо и не глядя по сторонам. И всю службу она стояла, как статуя, устремив взгляд в невидимую точку между алтарем и гирляндами орхидей, в то время как монахини и воспитанницы громко читали молитвы, а остальные преклоняли колени, садились и вставали. Потом отец Вилансио подошел к жениху и невесте, едва не коснувшись своей рыжей бородой лица Бонифации, и задал положенный вопрос, сначала стоящему навытяжку сержанту, который щелкнул каблуками и громко ответил «да», затем Бонифации, ответ которой никто не расслышал. Благодушно улыбаясь, отец Вилансио подал руку сержанту, и он пожал ее, потом Бонифации, и она приложилась к ней. Царившая в часовне торжественность спала. Воспитанницы перестали петь, и все заулыбались, задвигались, заговорили между собой. Лоцман Ньевес и Лалита обнимали молодых, а вокруг них образовался кружок. Дон Фабио шутил, дети смеялись, Тяжеловес, Малыш, Черномазый и Блондин ждали своей очереди поздравить сержанта. Но вот, заглушив шум, послышался голос начальницы — тише, господа, не забывайте, что вы в часовне, выйдите во двор, — и кружок распался. Лалита и Бонифация вышли за решетку, за ними потянулись приглашенные, а потом и монахини, и Лалита — пусти меня, глупенькая, смотри-ка, матушки накрыли стол, сколько сластей, соков, и скатерть белая, отпусти же меня, Бонифация, все хотят поздравить тебя. Мощеный двор искрился, залитый солнцем, и яркие блики играли на белых стенах главного здания, по которым, как плющ, ползли прихотливые тени. Как она стыдится матушек, даже посмотреть на них не смеет, а вокруг Лалиты колыхались сутаны, слышался шепот и смех, мелькали гимнастерки. Бонифация все цеплялась за нее, пряча лицо в цветастое платье, а сержант между тем принимал поздравления и обнимался с друзьями. Она плачет, матушки, вот дурочка. Что это ты, Бонифация? Это она из-за вас, матери, и начальница — не плачь, глупая, иди, я тебя обниму. Внезапно Бонифация отпустила Лалиту, обернулась и упала в объятия начальницы. Теперь она переходила от одной монахини к другой — она должна всегда молиться, Бонифация, — да, мамочка, — быть благочестивой христианкой, — да, — не забывать их, — она их никогда не забудет — и крепко обнимала их, и они крепко обнимали ее, и невольные слезы неудержимо катились крупными каплями по щекам Лалиты, смывая румяна — да, да, она их по-прежнему любит, — и обнажая изъяны ее кожи — она так молилась за них, — прыщи, пятна, рубцы. Этим матерям цены нет, отец Вилансио, чего они только не наготовили. Но послушайте, шоколад стынет, а губернатор голоден. Можно начинать, мать Гризельда? Начальница высвободила Бонифацию из рук матери Гризельды — конечно, дон Фабио, — и пиршество началось. Две воспитанницы обмахивали веерами стол, уставленный блюдами и кувшинами, а за их спинами маячила темная фигура. Кто это все приготовил, Бонифация? Ну-ка отгадай, а Бонифация всхлипывала — мать, скажи, что ты простила меня, — и теребила сутану начальницы — пусть она сделает ей этот подарок. Тонким розовым пальцем начальница указала на небо: молила ли она Бога, чтобы он простил ее? Раскаялась ли она? Молила, мать, каждый день молила. Тогда она прощает ее, но пусть отгадает, кто это все приготовил? Бонифация, хныча, — кто же еще, как не она, — искала кого-то взглядом среди монахинь — где она, куда она делась?