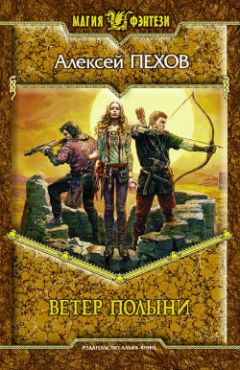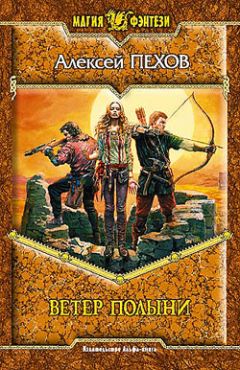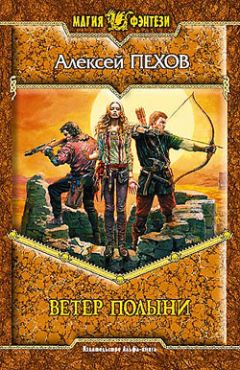Амин Маалуф - Лев Африканский
Я был не единственным, у кого возникла такая мысль: кардинал удалился во Флоренцию, Гвичардини — в Модену; многие писатели, художники, скульпторы, купцы срочно покинули Рим, словно его поразила чума. Чума и правда его поразила, но природа ее была не совсем обычной. Имя ее было провозглашено по всему городу от Борго до площади Навона и звучало оно как Адриан-варвар[57].
Выбор его в качестве понтифика был сродни покаянию. Слишком много обвинений выдвигалось против папства в последнее время, германцы целыми провинциями примыкали к идеям Лютера, а ответственность за это пала на Льва X. Дабы изменить облик Церкви, на смену флорентийцу, Медичи, воссевшему на престол в тридцать восемь лет и наделившему Рим своей приверженностью к роскоши и всему прекрасному, был избран голландец шестидесяти трех лет, «доброжелательный, скучный, лысый и скупой святой человек». Так о нем отозвалась Маддалена, относившаяся к нему без всякого снисхождения.
— Уж очень он напоминает мне ту аббатису, что преследовала меня. Та же ограниченность, то же желание превратить как свою жизнь, так и жизнь окружающих в сплошной пост.
Мое мнение вначале было не столь категоричным. Если я и оставался преданным своему благодетелю, все же отдельные стороны римской действительности коробили меня. Адриан заявил: «Я привержен скромному образу жизни!», и это никак не могло меня отвратить от него, как не могла вызвать у меня приступ хохота история, над которой в первую же неделю его правления потешались придворные: войдя в Сикстинскую часовню, новый понтифик будто бы вскричал при виде расписанных Микеланджело стен: «Это не храм, а парильня, набитая обнаженными телами!» — и повелел замазать нечестивые изображения.
Я разделял его точку зрения. Мое пребывание у римлян сняло во мне некое предубеждение по отношению к живописи, обнаженному телу и скульптуре. Однако это не распространялось на храмы. Таковы были мои настроения в момент интронизации Адриана VI. Правда, тогда я не знал, что этот бывший наставник императора Карла V до приезда в Рим был инквизитором в Арагоне и Наварре. За несколько недель он сумел сделать из меня настоящего Медичи, если уж не по происхождению, то по благородству устремлений.
Он начал с того, что отменил все пенсионы, назначенные Львом X, в том числе и мой, заморозил все заказы художникам, скульпторам, приостановил издание многих книг и строительство зданий. В каждой своей проповеди он метал громы и молнии против искусства, как античного, так и современного, против праздности, развлечений, расточительности. Постепенно Рим превращался в мертвый город, где ничего не возводилось, не создавалось и не продавалось. Чтобы оправдать свои меры, новый Папа напоминал о долгах, накопившихся при его предшественнике, считая, что средства разбазаривались впустую. Его приближенные говорили: «На средства, которые поглотил собор Святого Петра, можно было организовать крестовый поход против турок, а на средства, выплаченные Рафаэлю, — снарядить конный отряд».
За время пребывания в Риме я не раз слышал о крестовых походах, даже из уст Льва X. Но это говорилось как-то по привычке, несерьезно, подобно тому, как мусульманские правители толкуют о джихаде, чтобы ввести противника в заблуждение или успокоить слишком рьяного последователя Пророка. С Адрианом — будь проклят он сам и все слишком ревностные последователи той или иной идеи — ситуация изменилась. Он твердо верил, что, послав христиан на борьбу с исламом, он положит конец расколу с Лютером и помирит императора Карла с королем Франции.
Отмена моего пенсиона и призыв ко всеобщей резне: было над чем задуматься и лишиться всякого желания приветствовать восшествие нового Папы на престол. А также серьезно отнестись к идее переезда во Флоренцию, куда меня звал кардинал Джулио.
Я бы так и поступил, если бы не беременность Маддалены. Я снял для нас трехэтажный особняк в Понте. На последнем этаже была кухня, на втором — большая комната с моим рабочим столом, а на первом просторная спальня, двери которой выходили в сад. Вот в этой-то спальне одним июльским вечером и родился мой первенец, которого я назвал Джузеппе, или Йуссеф, так звали отца Мессии, сына Якова и султана Саладина. Моим восторгам не было конца. Маддалена посмеивалась надо мной, но ее пополневшее лицо сияло от счастья. Я часами не отходил от матери с ребенком, не в силах отвести от них глаз, когда она кормила грудью. У меня не было ни малейшего желания отправляться с ними куда бы то ни было, будь то во Флоренцию или Тунис, что мне было предначертано в этот год при весьма любопытных обстоятельствах.
* * *Как-то раз я был в гостях у кардинала Джулио, незадолго до его отъезда в Тоскану, как вдруг к нему пожаловал один молодой художник. Звали его, кажется, Маноло, прибыл он из Неаполя, где снискал некоторую известность, и прежде чем вернуться домой, надеялся продать ряд полотен. Не раз случалось, что художник издалека приезжал повидаться с кем-нибудь из Медичи, поскольку любой, кто стучался в их дверь, мог быть уверен: его не отпустят с пустыми руками. Неаполитанец развернул несколько холстов, как мне показалось, не все они были равнозначны. Я рассеянно поглядывал на них, как вдруг вздрогнул. Один из портретов, который Маноло торопливо убрал, обратил на себя мое внимание.
— Могу я взглянуть на это полотно? — спросил я.
— Разумеется, но оно не продается. Я по ошибке захватил его. Оно заказано мне одним торговцем.
Эта округлость, этот матовый цвет лица, эта борода и улыбка ничем не затуманенного доверия к жизни… Ошибки быть не могло! И все же я решил проверить:
— Как зовут этого человека?
— Мессир Аббадо. Это один из богатейших судовладельцев Неаполя.
— Аббад ле Сусси! — довольно пробормотал я. — Когда ты его снова увидишь?
— С мая по сентябрь он обычно в отъезде, но зиму проводит в своем доме возле Санта-Лючии.
Взяв лист бумаги, я набросал несколько слов для своего товарища. И два месяца спустя Аббад уже прибыл в Рим, чтобы навестить меня. Будь это мой родной брат, я бы так не обрадовался ему!
— Когда мы расставались, ты лежал закованный в трюме, и вот ты в добром здравии и, по всему видать, процветаешь.
— Алхамдулиллах! Алхамдулиллах! Бог был великодушен ко мне.
— Не больше, чем ты заслуживаешь! Я свидетель тому, что и в худшие времена ты не роптал на Провидение.
Я был искренен, и все же меня распирало от любопытства.
— Как тебе удалось так быстро поправить свои дела?
— Благодаря моей матушке, да благословит Господь землю на ее могиле. Она всегда повторяла мне одну фразу, которую я запомнил на всю жизнь: еще не все потеряно, если у тебя есть язык. Меня продали как раба, закованного в цепи, но язык мой был свободен. Я верно служил купцу, давал ему советы, делился своим опытом ведения дел в Средиземноморье. Он заработал столько денег, что год спустя освободил меня и сделал компаньоном.
Поскольку я был удивлен, насколько просто все сложилось, он пожал плечами.
— Если ты однажды разбогател в одной стране, ты с легкостью сделаешь это и в другой. Наши дела ныне процветают. Алхамдулиллах! В каждом порту у нас по представителю, открыто с десяток лавок, которые я регулярно объезжаю.
— А случается ли тебе бывать в Тунисе?
— Я отправляюсь туда этим летом. Повидаю твоих. Сказать ли им, что тебе здесь нравится?
Я признался ему, что хоть и не нажил состояния, зато не претерпел трудностей, связанных с пленением. И вкусил в Риме подлинного счастья: во-первых, на моих глазах возрождался, опьянев от прекрасного, античный город, и во-вторых, на коленях любимой женщины спал мой сын.
Мой друг порадовался за меня и лишь добавил:
— Если однажды ты перестанешь испытывать в этом городе счастье, знай, мой дом открыт для тебя и твоей семьи, а мои суда доставят тебя так далеко, как ты пожелаешь.
Я сказал, что пока не хочу покидать Рим, и обещал Аббаду задать в его честь пир, когда он вернется из Туниса.
* * *Мне не хотелось жаловаться другу, однако положение мое стало ухудшаться: Адриан объявил войну бороде. «Бороду пристало носить только солдатам», — изрек он и повелел всем, имеющим отношение к церкви, сбрить бороду. Напрямую меня это не коснулось, но, принимая во внимание мои частые посещения Ватиканского дворца, мое упорство сохранить это украшение мужского лица воспринималось как вызов Папе и напоминание о моих мавританских корнях, если не как показное нечестие. У итальянцев не слишком принято носить бороду, ее наличие скорее признак оригинальности и удел людей творческих профессий. Для кого-то она стала неотъемлемой частью их облика, кто-то с легкостью мог расстаться с ней и предпочел сделать это скорее, нежели терпеть неудобства, связанные с невозможностью бывать в Ватикане. Для меня же она была чем-то совершенно иным. В моих родных краях борода — необходимая принадлежность мужчины. Отсутствие ее не возбраняется, особенно если речь идет о чужестранцах. Сбрить же ее, когда ты на протяжении многих лет с ней не расставался, — признак унижения и морального падения. У меня не было никакого желания наносить самому себе такое оскорбление.