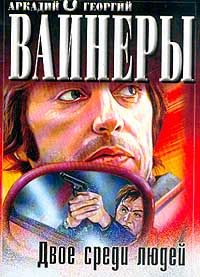Аркадий Вайнер - Петля и камень в зеленой траве
Он шел вдоль стены — мимо меня, и, пропустив его на шаг вперед, я из озорства сказал тихо и отчетливо:
— Старший лейтенант Михайлов!
Он не вздрогнул, его просто понесло чуть в сторону, как автомобиль с неисправными тормозами, но плавно остановился и голову поворачивал медленно налево, чтобы успеть рассмотреть мое отражение в полированной мраморной стене. Потом взглянул на меня в упор и твердо сказал:
— Моя фамилия Михайлович. Кто вы такой?
— Я Алексей Епанчин. Помните, я вас дергал за ус? Давно это было…
За стеклами очков вокруг глаз у него была темная морщинистая кожа, будто опалившаяся от долгого яростного полыхания буравивших меня зрачков. Глазницы были велики для раскаленных глаз, подозрительно рассматривавших меня из глубоких нор в этом крепком сухом черепе.
— Не знаю никакого Епанчина, — влепил он, как резолюцию отпечатал. — И никогда усов не носил. Ни давно, ни сейчас…
И в яростном блеске притаившихся в провале коричнево-черных его зрачков мелькнуло торжество и презрение.
Он носил свой бородавочный ус как приманку для дураков — все рассматривали это диковинное украшение, а он тем временем из бездонных колодцев выгоревших глазниц успевал разглядеть тебя всего.
Он был уже не Михайлов, а Михайлович, и, наверное, не старший лейтенант. Он был на службе. И всем своим видом демонстрировал мне, что я своими дурацкими шутками и нелепыми воспоминаниями чуть не расколол его в нелегалке.
Он повернулся, чтобы уходить, но все-таки задержался и сказал мне:
— А вам здесь, молодой человек, явно нечего делать. Это все-таки храм божий, надо уважать чувства верующих…
И пошел.
Ула похлопала меня сзади по плечу, спросила встревоженно:
— Ты о чем с ним говорил?
— Ни о чем, — засмеялся я.
— Это габе — староста синагоги. Его здесь все боятся…
— Неплохого выбрали себе старосту евреи! — захохотал я откровенно.
— Его не выбирают. Его назначает совет по религии…
— Ну, это крепкий религиозный боец! Он раньше у моего папаньки служил.
Ула скривилась, как от мучительной боли, пробормотала сквозь зубы:
— Как метастазы — всюду проросли…
Мы вышли на улицу, сели в «моську», я потихоньку тронулся с места, взглянув в обзорное зеркальце, и увидел наведенную мне в затылок двустволку выжженных глазниц в черном чехле роговых очков.
…я мчался по шоссе, и железно-масляный гул мотора, упругое бухтенье резиновых колес по серой ленте асфальта, свист ветра в боковом окне убаюкивал меня. Мне не хотелось спать, это была дрема в отчетливой яви. Я чувствовал свое движение.
Этот бешеный гон по узкому шоссе требовал такого внимания, что я невольно отключался от всех тех дум, событий и волнений, что перетурсучили мою жизнь в минувший грозовой душный август.
Я резал носы попутным грузовикам, отшатывала мой валкий «москвич» встречная воздушная волна от беззвучно и страшно надвигающихся грузовиков международных перевозок. Я проскакивал в узкие щели, обгонял, обгонял, и в этом бесцельном ралли, где на финише меня ждали только тени умерших, я надеялся найти успокоение и отдых от неутомимого мучителя, неустанного моего погонщика — страха.
Во мне зрела уверенность, что я теряю Улу. Как я могу удержать ее? Что я могу предложить ей!
Я хотел, чтобы скорость вырвала меня из воспоминаний. Мелькали, изматывали душу своей безнадежной красновато-глинистой пустотой сиротские поля.
На этой трассе нет жилья, на сотни километров нет буфета, лишь машинный раззор, шоферская суета и мат, горклый бензиновый смрад на редких колонках.
Нет жилья, нет людей. Только стрелки боковых указателей — до деревни столько-то, до города столько-то. Они все в стороне.
Я мчался по стратегической магистрали. На ней нет городов, деревень, людей. Они в стороне. Люди вообще в стороне от стратегических путей.
Всех своих людей я оставил позади. Обычные неведомые мне люди, почему-то навек застрявшие в своих деревнях в стороне от магистрали — они побоку. Впереди — тени…
Я уехал из своей квартиры, объятой счастьем, огромным и пугающим, как пожар. В этом разлагающемся жилище, уже отмеченном печатью распада и разрухи, обреченном на расплыв и расплев, где все было тлен, гниль, прель — в нем пышно заполыхал мираж душевного успокоения и надежды.
Нинка на третий день работы загуляла, загудела, пропила всю выручку за проданные эскимо и вафельные стаканчики и больше уже на работу не выходила. И была довольна. «Раньше жила, и сейчас проживу», — весело сказала она мне.
Иван Людвигович Лубо ходит на службу. Как всякая революция, это событие повергло их семью в голод, хаос и внутреннюю вражду — его жена Соня не успевает купить продуктов, не умеет жарить котлет, некому следить за тем, чтобы девочки вовремя расстегивали кальсонные пуговицы и вышибали гаммы из рассохшегося пиандроса, все недовольны, но, как при каждой революции, они надеются на временность этих трудностей, которые я не сомневаюсь, не кончатся никогда.
Довбинштейнам разрешили выезд. Измученные старческими немощами, ошалевшие от волнения, бесконечных хлопот, неисчислимых запретов, они с животной методичностью выполняли все строжайшие предписания по оформлению отъезда, и вид у них был людей задерганных и замученных насмерть, и не радовались они вслух не только из опасений проявить свою нелояльность к бывшей строгой родине. Михаил Маркович шепнул мне в коридоре — коротко, тихо, затравленно: «Алешенька, у меня нет сил больше жить…»
Когда я уходил из дома, приехал грузовик — забирать на таможню вещи Довбинштейнов. К ним привязался с ножом к горлу Евстигнеев, он требовал, чтобы они по пути захватили в комиссионный магазин его ореховый сервант. Довбинштейны испуганно отказывались, слабо возражая, что мебельный комиссионный магазин совсем не по пути, а грузчики и так матерятся, сердятся и грозятся уехать. Но главным образом они боялись, что Агнесса вернется от своей сестры раньше, чем они покинут пределы нашей отчизны, и объявит их сообщниками Евстигнеева. Дело в том, что за время отдыха Агнессы наш стукач-общественник сорвался с постромков. Загулял и запил.
Если бы в этот тягостно душный август я был занят не своими делами, а писал полицейский роман, то передо мной была бы готовая модель поведения ждущего возмездия растратчика. Не найдя спрятанных облигаций, Евстигнеев пропил оставленные ему женой деньги. Потом он стал выносить из дома и продавать вещи. Сердце его теснил ужас неминуемой страшной расправы, но хмельной боевитый ум склерозно подскрипывал — за восемь бед один ответ. Теперь он дошел до распродажи мебели. Он кричал на испуганных Довбинштейнов, он требовал отгрузки своего серванта, доказывая, что они не подохнут, если переплатят грузчикам за доставку в магазин его серванта лишнюю десятку. «Вам все равно здесь уже деньги ни к чему», — доказывал он трясущимся от страха старикам, которые находили в себе силы сопротивляться только в предвидении еще большего страха перед Агнессой.