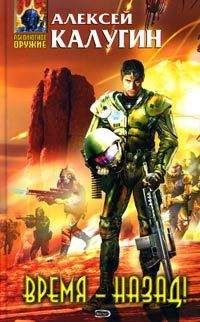Грэм Грин - Комедианты
— Я хочу добраться в Монте-Кристи еще до темноты.
— Вам лучше вернуться в Элиас-Пинас.
— Нет, если не возражаете, я тогда подожду здесь.
— Воля ваша.
В машине у меня была бутылка виски, и лейтенант стал гораздо приветливее. Человек, продававший украшения, попытался заинтересовать меня парой сережек, по его словам, это были сапфиры и алмазы. Вскоре он уехал в сторону Элиас-Пинас. Он продал лейтенанту часы, а сержанту — два ожерелья.
— Для одной и той же женщины? — спросил я сержанта.
— Для моей жены, — ответил он, подмигнув.
Солнце было в зените. Я сидел в тени на ступеньках караульного помещения и раздумывал, что мне делать, если фруктовая компания мне откажет. Оставалось, конечно, предложение мистера Фернандеса, и я гадал, придется ли мне ходить в черном.
Может быть, и есть преимущество в том, что ты родился где-нибудь вроде Монте-Карло, там нельзя пустить корней, и от этого легче принимаешь все, что выпадает тебе на долю. Те, кто не пустил корней, испытывают соблазн найти, как и прочие, убежище в религии или политической вере, но мы почему-то не поддаемся этому искушению. Мы — люди без веры; мы восхищаемся теми, кто посвятил себя какой-то цели, такими, как доктор Мажио и мистер Смит, восхищаемся их мужеством и честностью, их преданностью своему делу, но из робости или из-за отсутствия должного рвения мы оказываемся единственными, кто действительно посвятил себя целиком всему миру зла и добра, мудрости и глупости, равнодушия и заблуждений. Мы предпочитаем просто существовать, «вращаясь вместе с круговоротом Земли рядом со скалами, камнями и деревьями», как сказал Вордсворт.
Эти рассуждения увлекли меня; по правде говоря, они облегчили мою беспокойную совесть, которую разбудили во мне помимо моей воли отцы св. Пришествия, когда я был еще слишком молод, чтобы этому противиться. Тут солнце осветило ступени и загнало меня в караулку, где стояли койки, похожие на носилки, на стенах были приколоты фотографии красавиц, и стоял тяжелый, душный запах. Туда и пришел за мной лейтенант.
— Скоро сможете ехать, — сказал он. — Они уже подходят.
По дороге устало брели несколько доминиканских солдат; они тянулись цепочкой, чтобы держаться в тени деревьев. Винтовки они несли через плечо, а в руках держали оружие людей, спустившихся с гаитянских гор, — те шли немного позади, тяжело волоча ноги, лица у них были смущенные, как у детей, сломавших дорогую вещь. Я не узнал никого из негров, но почти в хвосте маленькой колонны я увидел Филипо. Он шел голый по пояс — рубашкой он перевязал себе правую руку. Заметив меня, он произнес с каким-то вызовом: «У нас не осталось патронов», но, по-моему, он меня тогда не узнал, а увидел только возмущенное, как ему показалось, белое лицо. Небольшой отряд замыкали два человека, которые тащили носилки. На них лежал Жозеф. Глаза его были открыты, но он уже не видел чужой страны, в которую его принесли.
Один из несших носилки спросил:
— Вы его знаете?
— Да, — ответил я, — он умел готовить отличный ромовый пунш.
Оба посмотрели на меня с негодованием, и я понял, что такие слова не подобает произносить над мертвым, мистер Фернандес справился бы с этим лучше. Я молча поплелся за носилками, как участник похоронного кортежа.
В караулке кто-то подставил Филипо стул и дал сигарету. Лейтенант объяснил ему, что до завтрашнего дня не будет транспорта и что у них нет врача.
— У меня только рука сломана, — сказал Филипо. — Упал, спускаясь в ущелье. Пустяки. Я подожду.
Лейтенант добродушно сказал:
— Мы открыли для ваших комфортабельный лагерь возле Санто-Доминго. В бывшем сумасшедшем доме...
Филипо захохотал:
— В сумасшедшем доме! Вот это правильно, — а потом заплакал. Закрыл лицо руками, чтобы спрятать слезы.
— У меня здесь машина, — сказал я. — Если лейтенант разрешит, вам не придется ждать.
— Эмиль ранен в ногу.
— Мы можем взять и его.
— Мне не хочется с ними расставаться. Кто вы такой? Ах, да, конечно, же, я вас знаю. Я плохо соображаю сейчас.
— Вам обоим нужен врач. Какой смысл сидеть здесь до завтра? Вы еще кого-нибудь ждете?
Я имел в виду Джонса.
— Нет, больше никого нет.
Я пытался вспомнить, сколько их шло по дороге.
— Все остальные убиты? — спросил я.
— Убиты.
Я устроил этих двоих поудобнее в вездеходе, а беглецы стояли вокруг, держа в руках куски хлеба, и смотрели на нас. Их было всего шестеро, да еще Жозеф, который лежал мертвый в тени на носилках. У всех был потерянный вид людей, чудом спасшихся от лесного пожара. Мы тронулись, двое нам помахали, остальные молча жевали хлеб.
Я спросил Филипо:
— А Джонс... погиб?
— Теперь уже да.
— Он был ранен?
— Нет, но ему отказали ноги.
Я с трудом вытягивал из него слова. Сперва я подумал, что ему не хочется вспоминать, но он просто ушел в себя. Я сказал:
— Он оправдал ваши надежды?
— Это был необыкновенный человек. Мы у него кое-чему научились, но времени было мало. Люди его любили. Он умел их рассмешить.
— Но ведь он не говорил по-креольски.
— Он обходился без слов. Сколько там человек в этом сумасшедшем доме?
— Около двадцати. Тот отряд, который вы искали.
— Когда мы снова раздобудем оружие, мы вернемся.
— Непременно, — сказал я, чтобы его утешить.
— Я хотел бы найти его тело. Надо, чтобы у него была настоящая могила. Я поставлю камень там, где мы перешли границу, а потом, когда с Папой-Доком будет покончено, мы воздвигнем такой же камень там, где погиб Джонс. Это станет местом паломничества. Я приглашу британского посла, может быть, кого-нибудь из королевской семьи...
— Надеюсь, Папа-Док нас всех не переживет.
Мы проехали Элиас-Пинас и свернули на хорошую дорогу в Сан-Хуан. Я сказал:
— Значит, он все-таки доказал, что способен на это.
— На что?
— Командовать партизанским отрядом.
— Он доказал это раньше, когда воевал с японцами.
— Ах да. Я забыл.
— Ну и хитер же он был! Знаете, как он провел Папу-Дока?
— Да.
— А знаете, он ведь чутьем находил воду издалека.
— Да ну?
— Конечно, но воды нам как раз хватало.
— А стрелял он хорошо?
— Оружие у нас было старое, давно вышедшее из употребления. Мне пришлось его учить. Он не был хорошим стрелком; он рассказывал, что прошел всю Бирму со стеком в руке. Зато он умел вести за собой людей.
— При его-то плоскостопии... Как он погиб?
— Мы подошли к границе, чтобы соединиться с остальными, и попали в засаду. Тут он был не виноват. Двоих убили, Жозефа тяжело ранили. Оставалось только бежать. Мы не могли идти быстро из-за Жозефа. Он умер, когда мы спускались в последнее ущелье.
— А Джонс?
— Джонс едва двигался, ноги очень болели. А потом он нашел, как он выразился, «подходящее местечко». Сказал, что задержит солдат, пока мы не доберемся до дороги. Солдаты побаивались близко к нам подходить. Джонс сказал, что догонит нас потихоньку, но я знал — он не придет.
— Почему?
— Как-то раз он мне сказал, что для него нет места нигде, кроме Гаити.
— Интересно, что он имел в виду.
— Он хотел сказать, что сердце его в Гаити.
Я вспомнил телеграмму из Филадельфии, полученную капитаном, и запрос поверенному в делах. На совести Джонса явно был не только дорожный погребец, украденный у Аспри.
— Я его полюбил, — сказал Филипо. — Мне хочется написать о нем английской королеве...
Они отслужили мессу за упокой души Жозефа и других убитых (все трое были католиками) и из вежливости присоединили к ним Джонса, чье вероисповедание так и осталось неизвестным. Я отправился в маленькую францисканскую церковь в переулке вместе с мистером и миссис Смит. Молящихся было совсем мало. Мир был явно равнодушен к судьбе Гаити. Филипо привел свой небольшой отряд из сумасшедшего дома, и в последнюю минуту вошла Марта, ведя за руку Анхела. Мессу служил гаитянский священник-эмигрант; пришел, конечно, и мистер Фернандес, у него был вид человека, привычного к таким церемониям, и вполне профессиональный.
Анхел вел себя хорошо и даже, кажется, похудел с тех пор, как я его видел. Я не понимал, почему он мне казался раньше таким противным, а глядя на Марту, стоящую в двух шагах впереди меня, не понимал, почему наша полусупружеская жизнь была мне так необходима. Теперь я думал, что эта жизнь была возможна только в Порт-о-Пренсе, в темноте и страхе комендантского часа, при бездействующем телефоне, тонтон-макутах с их черными очками, разгуле жестокостей, несправедливости и пыток. Наша любовь была похожа на вино, которое нельзя долго хранить и перевозить с места на место.
Священник был молодым человеком со светлой кожей метиса, сверстником Филипо. Он произнес очень короткую проповедь на слова апостола Фомы: «Давайте пойдем в Иерусалим и умрем с ним вместе». Он говорил:
![Роман Виртуальный - Сумеречный Призрак[СИ]](/uploads/posts/books/272886/272886.jpg)