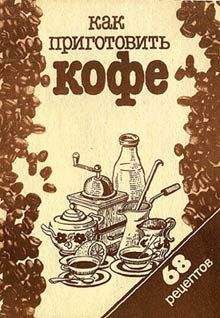Ирина Муравьева - Портрет Алтовити
– Шучу. Просто у китайцев покупаю. Мы, китайцы, любим цветы. Жасмин особенно.
Она поцеловала его в колючий подбородок и отодвинулась.
– Ничего-ничего, – почти угрожающе сказал он, – что нам эта жизнь? – Он сморщился презрительно. – Мелочь, букашка, и больше ничего! Одна из! А будут другие! Прекрасные! Чудесные! И там вы будете со мной! И никто вас не посмеет ни обижать, ни мучить! И водки там – нема! Один жасмин цветет, вот что. Один там белый жасмин, Ева.
– Вы заклейте письмо все-таки, а то неудобно.
– Нет, я, наоборот, хотел бы, чтобы вы прочитали. Сядете в самолет, делать будет нечего, ну и прочтите.
– То есть как: прочтите?
– Мне хочется, чтобы вы прочли. Потому что, дорогая, это письмо – оно не только Диночке. Оно и мне самому, и вам, и вообще… Диночка его, может быть, до конца и не дочитает. Она другим берет. Не начитанностью.
– Чем же?
– Вы думаете, я какую-нибудь гадость скажу? Боже меня сохрани! Даже если она меня бросит, даже если она меня уже бросила, ничего, кроме радости, она мне не принесла. И благодарным восторгом я ее помнить буду, а не обидой. А берет она беззлобностью. Такой, как она, – чтобы ну совсем не уметь злиться, – я такой женщины второй не встречал на свете. Даже вы по сравнению с ней – злючка и стерва. Вы, если вас разозлить, и укусить можете.
– Кого же это я укусила?
– Откуда я знаю? Может, пока что и никого. Но состаритесь и укусите.
Она засмеялась.
– Придете завтра со мной попрощаться?
– Приду. Если не сдохну. А зачем я вам нужен? К вам же этот, наверное, придет… Ваш. Попрощаться-то.
* * *…Вот, как просто. Он придет ко мне попрощаться.
Тыпридешькомнепопрощаться.
Мыстобойпопрощаемся.
…Все я сделала, как он просил. Позвонила сразу, как ушел Арсений. Подошел, я положила трубку. Он сразу перезвонил – значит, один был дома! – сказал, что зайдет после пяти. А я улетаю послезавтра.
Улетаюпослезавтраслышишь?
Он, может быть, думает, что я останусь, чтобы продолжать эту жизнь? Останусь тут без Саши? Что ты, милый, я не останусь.
Укусить тебя на прощанье, как говорит Арсений? Ты ведь меня предал. Нет, это я тебя предала. Ну, кусай ты меня.
Какая разница?
Размывсеравнопопрощаемся?
Чушь лезет в голову, слова слипаются, мысли слипаются. Кто-то гримасничает внутри головы.
Я тебя укушу. Ты меня укусишь.
Какое страшное слово. Придумать же такое.
Помнишь, мы с тобой смотрели фильм здесь, у вас, в Москве, и он назывался «Мы так любили друг друга»?
Итальянский фильм.
Мысмотрелистобойпомнишь?
Или это был другой фильм? «До свидания, мальчики»?
Ах, Москва! Снег серебристый! Тополиный пух по бульварам.
Стихи, бутылки. Окуджава с Высоцким.
Ли-те-ра-ту-ра.
Катиного мальчика убили в Чечне. Катю убили в Нью-Йорке. Меня убили в утробе. Арсения убили в подвале. Ричарда убила я сама.
Мы отдохнем.
* * *…Ну вот, звонок в дверь. У него же ключи. Может, это и не он. В глазок, в глазок! Как учила старуха.
Он. Кто же еще. Приглаживает волосы, прихорашивается.
Актеришка.
Никого нет лучше.
Не плакать. Никакого «над-рива».
Как говорила одна пожилая американка, изучающая русский язык: «над-рив».
Надрыв.
Это из Достоевского.
Ну конечно, из Достоевского. Кто еще такое придумает.
– Ева, прости меня.
…Что же это у нас все как в книжке? Как в самом скверном женском романе? Прости да прости. Сплошной над-рив.
– Ева, почему ты молчишь?
– Тяжело как.
– Ты что, решила уехать?
…Паника у него в глазах. Вместе с облегчением. Сам не знает, чего хочет.
До чего ты близок мне.
Будто я тебя родила.
– Да, послезавтра самолет. Вернее, даже завтра. Потому что очень уж рано утром послезавтра. Я лучше поеду с вечера, переночую в Шереметьеве в гостинице.
…Вопрос у него в глазах. Ну да. Значит, у нас есть ночь? Ночь-то есть, да кто ж тебя ко мне отпустит?
Как у вас поют: «а ночка темная бы-ы-ы-ла…!»
Не могу ничего сказать. Томас! Слова слипаются.
– Иди ко мне.
– Не могу. У меня страх внутри. Страх, страх.
– Ты моя люби-и-имая! Ты моя девочка. Что делать будем, Ева?
Ты запутался, бедный. Как раньше было просто. Знали, что делали.
– Прощаться. Помнишь? Ты меня учил? Слово это… как его? «Запохаживается». Мы будем, запохаживается, прощаться.
– Прости ее. Она…
– Ты думаешь, я из-за нее уезжаю?
– Ну что я могу тебе предложить, что? Я тебе говорил, что нужно было тогда, пять лет назад, до всего! Нужно было решиться, и все!
– Что сейчас ворошить! Как вышло, так и вышло. Запохаживается…
– Да вышло-то ужасно! Хуже смерти!
– Глупости ты говоришь: хуже, лучше… Я – с тех пор, как Катя умерла – думаю о смерти все время. Для меня это все слилось, раз она там… Но я знаешь чего боюсь? Вот я уеду, мы будем так далеко, и я даже не узнаю, что ты умер, а ты не узнаешь, что я… Мы и не простимся. Смыло нас, да? We don’t exist together… Any more.[73]
– Что? Подожди, ты мне ответь: зачем ты тогда так поступила? Как ты могла? Я же на коленях перед тобой стоял! А ты?
– А ты?
– Ты меня в аду бросила! В чем ты теперь меня упрекаешь?
– Ты меня предал. Ты меня предал сразу. Как только я уехала.
– Я тебя предал?
– Да.
– Давай не будем, а то, если мы начнем считаться… Я твои штучки тоже не забыл. Они покруче…
– Давай не будем. Люди всегда предают. Чтобы было потом, чем мучиться. Это, как у нас говорят, «часть пакета».
– У-у-ух, как я тебя люблю! Нет, ты же не знаешь!
– И я тебя. Знаешь, как вышло с Элизе? Мы с Сашей проходили мимо «Националя», а Элизе как раз – из подъезда. Саша закричал на всю улицу. Толпа собралась. Ты подумай, какой у меня был день? Утром – твоя жена чуть не убила, вечером – Элизе…
– Ева, иди ко мне! Ну, вот так. Девочка моя. Мы не прощаемся. Это просто перерыв. «Остановка в пустыне», как говорил Бродский.
– Почему вы все такие…
– Какие?
– Почему вы все в России так любите говорить цитатами? Все говорите одними и теми же литературными цитатами!
– Потому что мы культурная нация. Ну, что ты опять? Я же с тобой! Ева!
– Ты не со мной.
Оттолкнул ее. Бросился на кровать. Вытянулся, длинный и молодой, как мальчик.
Он всегда казался моложе в постели.
Легла рядом.
– Как же я жить-то буду без тебя?
– А я без тебя?
– Давай так: мы не прощаемся. Ты уезжаешь на время. Потом ты вернешься, когда все успокоится.
– Она не успокоится.
– Почему? Если бы ты сейчас не приехала… Она же уже успокоилась.
– Тебе ее жаль.
– А ты думаешь, легко это видеть, как кто-то рядом с ума сходит? Она была нормальной! С тяжелым характером, но нормальной. Сильной, иногда веселой. Помогала мне во всем. А сейчас она инвалид.
– А я?
– Ты?
Вжаться в него. Еще, еще. Еще! Кто куда уезжает? Никто, никуда. Ах, как темно, чудесно, лоб твой, локти. Подожди, давай расстелим. Давай вот так, под одеяло. Мне все время холодно, может, отопление не работает? Вот так. Подожди, не трогай меня, не шевелись. Мы спрятались. Нет нас. Сюда же она не придет? Не трогай меня. Я не плачу. Подожди, не трогай меня.
– Люби-и-имая!
– Спой мне.
– Что-о-о?
– Ну, спой мне! Помнишь, ты мне пел?
– Ты с ума сошла.
– Вот эту: «Вдоль по дороге пыль серебрится…»
– Не пыль. Это же зимой! «В лунном сиянье снег серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Динь, динь, дон! Динь, динь, дон! Колокольчика звон, колокольчика звон! То ли явь, то ли сон…»
Письмо Арсения, прочитанное Евой Мин в самолете:
«Моя Диночка, главное – ты не беспокойся, потому что я жив и здоров. Прикончил Николая Васильевича, он уже высох, стоит посреди мастерской совершеннейшим гоголем. Я им доволен. А доволен ли он мной – не знаю: кто его будет спрашивать? Я уверен, что ты, нежность и радость моего существа, тоже жива и благополучна, а то, что ты не звонишь и не едешь, – значит, у тебя есть на это свои причины, в которые я не должен вмешиваться.
Диночка, только не думай, что может случиться в нашей жизни такая глупость, как мое превращение в кого-то другого, то есть не бойся, что я из обожающего тебя мужика вдруг превращусь в строгого и сурового мужа, хозяина положения. Тогда пусть придет большой мускулистый черный человек из Гарлема и убьет меня.
Моя маленькая, моя ненаглядная Диночка, не бойся. Если ты считаешь, что я мешаю тебе, скажи мне об этом сама, и я устранюсь. Никогда и ни в чем я не посягну на твою свободу, никогда и ни в чем я не посмею осудить тебя. Ты на свете всех умнее, всех румяней и белее, помни это! И еще помни, что, как бы ты ни поступила сейчас, ты уже дала мне столько света, столько счастья и смысла, что их хватило бы на несколько больших и важных мужских жизней, а все ведь досталось мне одному.
Так что же, кроме благодарности, я могу чувствовать? Ты только пойми, радость моя, что существованье наше – как я его ощущаю – есть некая душная, ворсистая и колючая ткань, похожая на тюремное или больничное одеяло, – накроет тебя, и дышишь этим затхлым темным ворсом. Ты открыла лазейку для души в этой колючей тюремной ткани, и я увидел белизну воздуха. Оказывается, его много.