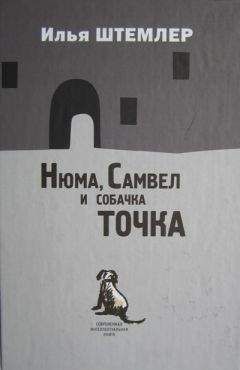Филип Рот - Мой муж – коммунист!
Надо полагать, та же мысль явилась и Айре, когда он натолкнулся на О’Дея в Иране. О'Дей обработал его на том же интуитивно-нутряном уровне. Схватил и примотал кишками к мировой революции. Только Айра потом выкинул новый фортель – как-то само собой, неожиданно, непреднамеренно вышло, что с той же неистовой волей к победе он вдруг заиграл в другие игры, тогда как О'Дей сам не был ничем иным, кроме как производным от своего настоящего дела. Почему так? Потому что он не был евреем? Потому что был гой? О'Дей рос в католическом сиротском приюте, Айра говорил мне об этом, и что – поэтому? Может, поэтому он был способен так дочиста, так безжалостно себя обобрать, настолько явственно ничего себе не оставив, кроме голой сути, сухого остатка своей идеологии?
В нем не было и тени той теплоты, той тонкости, какую я чувствовал в себе. Видел ли он во мне эту тонкость? Если да, то не по моей воле, в этом я старался ему помешать. Вся моя жизнь с ее тонкостью и уязвимостью, едва я попал в Ист-Чикаго к Джонни О'Дею, просто напрочь куда-то испарилась! У заводских ворот в семь утра, и в три дня, и в одиннадцать вечера я буду раздавать листовки каждой смене рабочих. Он научит меня, как их писать, что сказать и как лучше сказать это, чтобы побудить к действию американских работников наемного труда и построить в Америке справедливое общество. Он научит меня всему. Я совершу побег из комфортабельной тюрьмы, преодолею свою личную незначительность и здесь, в одном строю с Джонни О'Деем, вступлю в сверхнакаленную среду, которая есть история. Никчемная работа, нищенское существование – все это так, да-да, но здесь, в одном строю с Джонни О'Деем я заживу настоящей жизнью! В которой все как раз наоборот – глубоко, значительно и самоценно.
Трудно поверить, что с такими настроениями я мог отыскать дорогу обратно. Но к полуночи я все еще не позвонил родным, не сообщил им о своем новом решении. О'Дей дал мне две тоненькие брошюрки, чтобы я прочитал их в поезде по дороге в Чикаго. Одна называлась «Теория и практика Коммунистической партии», вводная часть курса по теории марксизма; она была издана Национальным образовательным центром Коммунистической партии. В ней всего на каких-нибудь пятидесяти страничках исчерпывающе обнажалась природа капитализма, капиталистической эксплуатации и классовой борьбы. О'Дей пообещал, что при следующей встрече мы обсудим ее содержание, и он даст мне следующую часть курса, «развивающую на более высоком теоретическом уровне», как он сказал мне, «тематику вводной части».
В другой брошюрке, которую я взял с собой в поезд, называвшейся «Кто владеет Америкой?», некто Джеймс С. Аллен утверждал (пророчески), что «капитализм даже в самом его могущественном воплощении, таком как в Америке, будет и впредь оставаться источником бедствий все большего и большего масштаба». Обложка была картонной, на ней в синем и белом цветах был изображен свиноподобный толстяк во фраке и цилиндре, нагло развалившийся на раздутом мешке с деньгами, на котором значилось: «Прибыли», а жирное брюхо толстяка украшал знак доллара. На заднем плане, символизируя собственность, несправедливо экспроприированную богатым правящим классом у «главной жертвы капитализма», борющегося пролетариата, курились дымами фабрики и заводы Америки.
В поезде я прочитал обе брошюры; в комнате общежития перечитал их в надежде почерпнуть в их содержании силы для звонка домой. Последний раздел книжки «Кто владеет Америкой?» назывался «Вступай в ряды коммунистов!». Его я прочитал вслух, будто бы это Джонни О'Дей сам ко мне обращается: «Да, вместе мы выиграем наши стачки. Мы построим наши профсоюзы, соберемся вместе для борьбы и разгромим все происки реакционеров, фашистов и поджигателей войны. Вместе мы бросим все силы на построение великого независимого политического движения, которое достойно поборется на выборах с партиями трестов и монополий. Ни на мгновение мы не дадим покоя угнетателям – олигархии, которая ведет нацию к гибели. Вступай в Коммунистическую партию! Будучи коммунистом, ты сможешь наиболее полно, в наивысшем смысле этого слова, выполнить свой долг перед Америкой».
Я подумал: господи, ну что в этом такого невозможного? Сделай это, как тогда, когда ты сел в автобус, приехал в центр и пошел на митинг Уоллеса. В конце-то концов, твоя это жизнь или не твоя? Есть у тебя смелость отстаивать свои убеждения или нет? Где ты хочешь жить – в той Америке, что есть сейчас, или в той, которая будет, когда ты пропустишь ее через горнило революции? Или ты, подобно прочим мечтательным студентикам, очередной самовлюбленный сытый эгоист и лицемер? Чего ты боишься – невзгод и тягот, поношений, опасностей или самого О'Дея? Не лучше ли признаться, что боишься ты своей собственной мягкотелости? Не озирайся на родителей, они тебя не выручат. Не звони домой, не спрашивай их разрешения вступить в Коммунистическую партию. Пакуй пожитки, книги и возвращайся в Ист-Чикаго, сделай это! Иначе в чем разница между твоей способностью дерзнуть и покорностью Ллойда Брауна, между твоей отвагой и пассивностью Брауни, приказчика в лавке, который хочет унаследовать место Томми Минарека на каменной свалке в Цинк-тауне? Так ли уж отличается неспособность Натана обмануть ожидания домашних и пробиваться собственным путем к истинной свободе от неспособности Брауни обмануть ожидания его домашних и пробиваться к свободе его путем? Он останется в Цинк-тауне, будет продавать минералы, я останусь в университете, буду изучать Аристотеля и кончу тем, что стану таким же Брауни, только с дипломом.
В час ночи я вышел из общежития на Мидуэй и сквозь метель – то была моя первая чикагская метель – зашагал в Интернэшнл-хауз. Сидевший за столом консьержа студент-бирманец узнал меня, открыл дверь и, когда я сказал: «К мистеру Глюксману», кивнул и, несмотря на поздний час, впустил. Я поднялся на этаж к Лео и постучал. Пахло карри – наверное, кто-нибудь из студентов у себя в комнате на плитке готовил обед, после этого запах в коридоре стоит часами. Я думал: вот, какой-то пацан из Бомбея приехал учиться в Чикаго – его аж из Индии принесло, а ты боишься пожить в Индиане. Вставай на борьбу с несправедливостью! Не стой тут под дверью, ну-ка, кругом! и пошел, и пошел! Все в твоих руках! Вспомни заводские ворота!
Но я много часов уже был на взводе – да все, считай, годы взросления, всю свою сознательную жизнь я носился с подобными видениями и идеями: истина! справедливость! – поэтому, когда Лео в пижаме нарисовался передо мной в дверях, я вдруг ударился в слезы и этим ввел его в опасное заблуждение. Из меня изливалось все то, что я не смел показать Джонни О'Дею. Моя мягкотелость, мальчишество, вся моя презренная, О'Дея недостойная сущность. Вся моя никчемность. Господи, ну что в этом такого невозможного? А то, что во мне был тот же изъян, что и у Айры: душа, которая рвалась одновременно в разные стороны, не обладала завидной О'Деевой узостью, позволявшей ему, не колеблясь, обмануть ожидания кого угодно, чем угодно поступиться, кроме революции.
– Ой, Натан, – произнес Лео с нежностью. – Дружочек дорогой.
Впервые он обратился ко мне иначе, нежели «мистер Цукерман». Он посадил меня у стола и, стоя от меня всего в нескольких дюймах, смотрел, как я, хлюпая носом, расстегиваю пуговицы драповой куртки, промокшей и отяжелевшей от талого снега. Может, он ждал, что я разденусь совсем. Однако не тут-то было: вместо этого я принялся рассказывать ему про человека, с которым познакомился. Сказал, что хочу работать с Джонни О'Деем и для этого мне надо уехать в Ист-Чикаго. Иначе меня просто совесть замучит. Но можно ли это сделать, не сообщая родителям? Мой главный вопрос к Лео состоял в том, правильно ли это будет, честно ли.
– Ах ты дрянь! Блядская твоя рожа! Вон! Убирайся отсюда! Мелкая ты двуличная гадина: раздрочит и поминай как звали?
С этими словами он выпихнул меня из комнаты и захлопнул дверь.
Я не понял. Не понимал я и Бетховена, да и с Кьеркегором не все у меня складывалось просто, а уж что кричал Лео, а главное, что хотел этим сказать, было и вовсе за гранью моего понимания. Что я сделал-то? Всего лишь сказал ему, что собираюсь поселиться вместе с сорокавосьмилетним сталеваром-коммунистом, который, по моему описанию, похож на постаревшего Монтгомери Клифта, и тут Лео берет и вышвыривает меня вон.
Посмотреть, что происходит, выскочил не только тот студент-индиец, что жил напротив, но чуть ли не все студенты из Азии и Африки, жившие в комнатах слева и справа по коридору. В большинстве своем в этот час они были в исподнем, а предстал перед ними мальчишка, которому как раз в этот миг открылось, что в семнадцать лет стать героем потруднее будет, чем взрастить в себе способность вызывать у всех желание схватить тебя за уши и тащить то в героизм, то в моральные дебри, а то и еще куда. Впрочем, зрителям это не открылось, а потому они подумали о чем-то совсем ином. О чем они подумали, когда увидели меня, я и сам не догадывался, пока на следующем семинаре по античности не обнаружил, что Лео Глюксман отныне не только не считает меня «личностью, превосходящей остальные» (не говоря уже о том, чтобы видеть во мне задатки великого человека), но смотрит на меня как на сопливого, в культурном отношении отсталого, смешного недоросля, по дикому недоразумению попавшего в Чикагский университет. И что бы я потом ни говорил на семинарах, что бы ни писал в курсовых работах, так до конца года все и осталось, не помогли и длинные письма, в которых я объяснялся, извинялся и оправдывался тем, что я ведь так и не бросил университет, так и не поселился с О'Деем, – нет, ничем не смог я загладить его обиду.