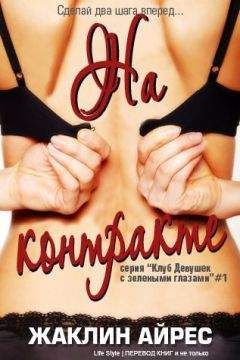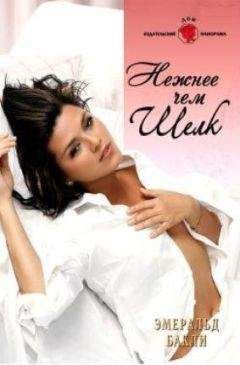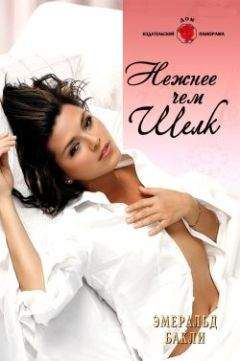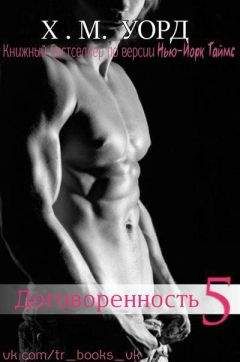Патрик Зюскинд - Избранное
И лишь потом, уже тогда, когда только-только начало светать, раздался, в конце концов, треск, один единственный, но такой сильный, словно взорвался весь город. Джонатан подскочил на кровати. Он услышал щелчок не сознанием, не говоря уже о том, чтобы понять, что это раскат грома, хуже: в секунду пробуждения этот щелчок проник во все его члены ничем не прикрытым ужасом, причину которого он не знал, смертельным ужасом.
Единственное, что до него дошло, был отзвук щелчка, многократное эхо и перекаты грома. Было такое впечатление, что дома снаружи рухнули, словно книжные полки, и первой его мыслью было: теперь все, вот он — конец. И он подразумевал под этим не свой собственный конец, а конец света, апокалипсис, землетрясение, атомная бомба или и то и другое вместе — в любом случае полный конец. Но потом вдруг снова воцарилась мертвая тишина. Не было слышно ни шума, ни падения, ни щелчка, ни ничего, ни эхо от ничего. И эта внезапная и тягучая тишина была откровенно еще страшнее, чем грохот гибнущего мира. Потому что теперь Джонатану почудилось, что хотя он еще и существует, то кроме него нет больше ничего, ни «напротив», ни «верха», ни «низа», ни «снаружи», ни «другого», по чему можно было бы хотя бы сориентироваться. Все восприятия, зрение, слух, чувство равновесия — все, что могло бы ему сказать, где и кто он сам есть — рухнули в абсолютную пустоту и тишину. Он ощущал еще только свое собственное, бешено колотящееся сердце и дрожание собственного тела. И еще он знал, что находится в кровати, но не знал, в какой, и где эта кровать стоит — если она вообще стоит, если она не летит куда-нибудь в бездну, потому что кажется, что она качается, и он крепко вцепился обеими руками в матрац, чтобы не вывалиться и не потерять то единственное что-то, что он держит в руках. Он искал в темноте, за что зацепиться глазами, в тишине — ушами, но ничего не слышал, ничего не видел, абсолютно ничего, что-то зашаталось в желудке, в нем начал подниматься отвратительный привкус сардин. «Только не сдаваться, — подумал он, только не блевануть, только не сейчас вывернуть себя наизнанку!»… И потом, после ужасной вечности, он все-таки что-то увидел, точнее — крошечный слабый отблеск справа вверху, совсем чуть-чуть света. И он уставился туда и прочно держался глазами за маленькое, квадратной формы пятнышко света, отверстие, раздел между внутри и снаружи, своего рода окно в комнате… да, но в какой комнате? Это ведь не его комната! Ни за что в жизни это не может быть твоей комнатой! В твоей комнате окно расположено над тем концом кровати, где твои ноги, и не так высоко под потолком. Да это… это также и не комната в доме дяди, это — детская комната в доме родителей в Шарантоне — нет, это не детская комната, это подвал, да, подвал, ты в подвале родительского дома, ты ребенок, тебе всего лишь приснилось, что будто бы ты вырос, мерзкий старый охранник в Париже, но ты — ребенок и сидишь в подвале родительского дома, а на улице война, и ты попался, тебя засыпало, о тебе забыли. Почему они не идут? Почему они меня не спасают? Почему такая мертвая тишина? Где другие люди? О Боже, где же другие люди? Без других людей я ведь не смогу жить!
Он был готов кричать. Он хотел криком вытолкнуть из себя в тишину это единственное предложение, что без других людей он не сможет жить, так велико было его горе, таким угнетающим был страх стареющего ребенка Джонатана Ноэля перед тем, что его покинули. Но в тот момент, когда собирался начать кричать, он получил ответ. Он услышал шум.
Что-то постучало. Тихо-тихо. Затем — снова. И в третий раз, и в четвертый, где-то наверху. А затем стук перешел в регулярную барабанную дробь, которая становилась все сильнее и сильнее, и, наконец, это стало уже вовсе не барабанной дробью, а мощным обильным шумом, и Джонатан узнал в этом шуме дождь.
И тогда все стало на свои места, и Джонатан узнал теперь светлое квадратное пятнышко форточки, выходящей в приямок, в сумрачном свете он узнал очертания гостиничной комнаты, умывальник, стул, чемодан, стены.
Он оторвал свои руки от матраца, подтянул ноги к груди и обхватил их руками. Он надолго застыл в такой скрюченной позе, прошло не менее получаса, а он все вслушивался в шум дождя.
Затем он поднялся и оделся. Ему не нужно было включать свет, он хорошо ориентировался в сумерках. Взял чемодан, пальто, зонтик и вышел из комнаты. Тихонечко спустился по лестнице. Ночной портье у регистрационной стойки спал. Джонатан прошел мимо него на цыпочках и осторожно, чтобы не разбудить, нажал на ручку дверного замка. Послышался негромкий щелчок и дверь открылась. Он вышел на улицу.
Там на улице он окунулся в прохладный серо-голубой утренний свет. Дождь уже прекратился. Но продолжало капать с крыш, и одинокие капли срывались с козырьков, на тротуарах стояли лужи. Нигде ни души, не видно было ни единой машины. Дома стояли притихшие в своей скромности, почти трогательной невинности. Казалось, что дождь смыл с них и спесь, и кичливый лоск, и всю исходившую от них угрозу. По витрине продовольственного отдела универмага «Бон Марше» прошмыгнула кошка и исчезла под убранные овощные полки. Справа на Скуар Букико потрескивали от влаги деревья. Подала голос парочка черных дроздов, их пение отражалось от фасадов домов и еще более подчеркивало тишину, в которую был окутан город.
Джонатан пересек Рю де Севр и свернул на Рю дю Бак, чтобы попасть домой. Каждый шаг отдавал шлепком его мокрых подошв по мокрому асфальту. Идешь, словно босиком, подумал он, имея в виду скорее звук, чем ощущение скользкой влажности в обуви и носках. Для него было бы большим удовольствием снять обувь и носки и пойти дальше босиком, и если он этого не сделал, то только из-за лени, а вовсе не потому, что это показалось бы ему неприличным. Но он старательно шлепал по лужам, он старался ступать как раз посередине каждой лужи, он бежал, меняя направление, от лужи к луже, иногда он переходил даже на другую сторону улицы, потому что видел на противоположном тротуаре особенно красивую и большую лужу и плюхался своими плоскими хлюпающими подошвами в нее так, что брызги летели и на витрины, и на припаркованные здесь автомобили, и на его собственные штанины, это было восхитительно, он наслаждался этим маленьким детским свинством, словно большой вновь обретенной свободой. Он был окрылен и безгранично счастлив, когда вышел на Рю де ля Планш, вошел в дом, прошмыгнул мимо закрытой комнатки мадам Рокар, пересек внутренний двор и начал подниматься по узкой лестнице хозяйственного входа.
И лишь наверху, подходя к шестому этажу, перед концом пути его охватило нехорошее предчувствие: там наверху сидит голубь, это отвратительное животное. Он, должно быть, расположился на своих красных когтистых лапках в конце коридора, посреди нечистот и летающего пуха, и ждет, голубь, с его ужасными вывернутыми наружу глазами, он, должно быть, взлетит с щелкающим хлопком крыльев и коснется ими его, Джонатана, и нет никакой возможности уклониться в тесноте коридора…
Он поставил чемодан и остановился, хотя пройти ему осталось всего лишь пять ступенек. Отступать он не хотел. Он хотел только какое-то мгновенье подождать, немножко отдышаться, дать хоть чуть-чуть успокоиться своему сердцу, прежде чем одолеть последний отрезок пути.
Он посмотрел назад. Его взгляд скользнул по овалу перил вниз в глубину лестничной клетки, и он увидел на каждом этаже лучи падающего сбоку света. Утренний свет потерял свою синеву и стал, как показалось Джонатану, золотистее и теплее. Из хозяйских комнат до него донеслись первые шумы просыпающегося дома: звон чашек, приглушенный щелчок двери холодильника, тихая музыка из радиоприемника. Затем его нос внезапно уловил напористый знакомый аромат, это был аромат кофе мадам Лассаль, и он несколько раз втянул его в себя, у него было ощущение, словно он сам пьет этот кофе. Выпив свой кофе, он двинулся дальше. Больше он нисколечко не боялся.
Ступив в коридор, он сразу же, одним взглядом выхватил две вещи: закрытое окно и половая тряпка, развешенная для просушки над сливной раковиной рядом с общим туалетом. Конец коридора рассмотреть он еще не мог, тот был закрыт ослепляюще яркой полосой света, падающего от окна. Он продолжал идти, довольно успешно подавляя страх, переступил через полосу света и вошел в тень. Коридор был абсолютно пустым. Голубь исчез. Пятна на полу были вытерты. Не было больше ни перышка, ни пушиночки, которая трепетала на красном кафеле.
ПОВЕСТЬ О ГОСПОДИНЕ ЗОММЕРЕ
В ту пору, когда я еще залезал на деревья, а было это давным-давно, много лет и десятилетий назад… я тогда был ростом чуть выше метра, носил ботинки двадцать восьмого размера и весил так мало, что мог летать… ей-богу, не вру, в самом деле мог… ну, по крайней мере, почти мог, или скажем так: в свое время я действительно смог бы взлететь, если бы твердо решился и хорошенько постарался, потому что… потому что отлично помню, как однажды чуть было не взлетел, а случилось это осенью, в первом классе, когда я возвращался из школы и дул такой сильный ветер, что, даже не разводя руки в стороны, на него можно было опереться и не упасть, как будто ты лыжник и прыгаешь с трамплина, надо только немного пригнуться, еще немного, еще… ведь я тогда бежал через луга навстречу ветру, вниз со Школьной горы, так как школа стояла на горке за деревней, а я просто немного оттолкнулся от земли и раскинул руки, и ветер подхватил меня и понес, и можно было очень даже легко прыгнуть на два, три метра в высоту, а в длину на десять, двенадцать метров… ну, может, немного ниже и немного ближе, разве в этом дело!., во всяком случае, я почти летел, и если бы только расстегнул пальто, взялся за обе полы и раскинул руки, как крылья, ветер бы сразу же поднял меня и я очень бы даже легко спланировал со Школьной горы, через ложбину, к лесу, а через лес прямиком к озеру, где стоял наш дом, а там бы я, к безграничному изумлению всех — отца, мамы, сестры и брата, слишком старых и тяжелых, чтобы летать, — там бы я изящно развернулся высоко над садом, на бреющем полете пересек бы озеро почти до самого другого берега и наконец позволил бы ветру спокойно отнести меня назад и доставить домой точно к обеду.