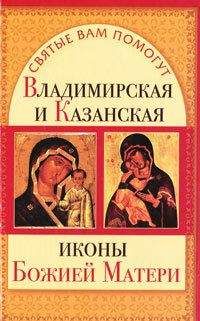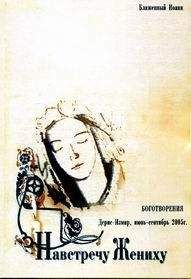Елена Крюкова - Серафим
– Господи, – сказал я, теряя дыханье от радости, – ведь Ты так же нес на руках, под звездами, Марию, любимую свою, жену свою…
– Магдалину? – спросила Настя тихо и поцеловала меня в шею, в яремную ямку, там, где нательный крест.
Я опустил ее наземь и сам поцеловал ее в это же место, туда, где ее маленький, как озерная стрекозка, крестик золотел во тьме ночной.
– Магдалину, – сказал я тихо и твердо.
– Это ты ее на иконе Воскресения написал?
Звезды тихо, медленно осыпались на нас. Так сыплют хмель на венчанных.
– Настя, давай поженимся по-настоящему. По-Божески. Повенчаемся. Я знаю, что мне нельзя жениться. Но я попрошу прощенья. У Бога… у людей. Я приглашу в Василь отца Максима, из Нижнего. Он нас повенчает. Будем мужем и женой перед Богом.
Она нежно засмеялась. Я видел, как радостно, раскосо, как у молоденькой нераздоенной, озорной козочки, блестели ее глаза.
– Хорошо, – только и сказала она.
Наши лица сблизились, и я снова поцеловал ее под звездами, под синими, жаркими и ледяными метеорными потоками, и это было как наша клятва, как обрученье. И я тихо сказал внутри себя: «Господи, прости нам наш грех, что невенчаны мы, но каждый раз, когда я обнимаю возлюбленную мою, это как в первый раз; и она, отдаваясь мне всякий раз, как впервые, отдается. Это чудо, Господи, Ты сотворил для нас чудо! Так не накажи нас за Свое же чудо! Укрепи нас! Дай нам друг друга навсегда, освященных именем Твоим и святым таинством венчанья Твоего…»
Теплая пыль дороги щекотала ноги. Мы шли в село с Настей рука в руке. Рука об руку. Молчали.
Наше молчанье перетекало, мерцало как испод перловицы, вспыхивало головешками в печи, освещало, как дальние заволжские страшные зарницы, наши до краев налитые счастьем лица.
Я крепко держал Настю за локоть. Вел ее в темноте по улице Халтурина. Мы свернули в проулок, и нам в лицо из живой, звездной темноты полезли вишни. Вишневые ветки. Вишневые листья. И живые вишни – в ночи темные, как жуки, маленькие круглые планеты, над нами висящие. И мы хватали их губами, прямо с ветвей хватали! Смеялись беззвучно. Чтобы никого не разбудить. Чтобы не разбудить семейство Ваньки Пестова. И бабу Зину Кускову. И Галину Николаевну Харитонову, по второму мужу Пушкареву. И Валю Однозубую. И слепого Николая-Дай-Водки. Он слепой-слепой, а все слышит, и ну проснется, и выскочит на крыльцо в кальсонах чуть ли не довоенных, и ну давай орать: этта кто?! этта што-о-о-о?! спать не дають, сволочуги молодыя-а-а-а!..
Настя плюнула наземь вишневую косточку. Я сорвал вишню губами, осторожно снял, чтоб не раздавить, и поднес лицо свое, с вишней в губах, к Настиному лицу.
Она взяла вишню губами у меня из губ.
Языком я нашел теплую, кровавую косточку. Вобрал, вглотал. И проглотил. Синильная кислота, да, так, кажется, яд называется. Все, теперь помру, как пить дать.
Мы жарко, неутоленно целовались под темной, ласковой вишней, Настя задыхалась от радости, и я тоже.
– Жена моя, – тихо сказал я, оторвавшись от ее сладких, слаще вишни, губ. – Солнце мое. И в ночи – солнце. И – всегда.
– Это ты солнце мое… – шепнула мне она.
И тут из-за забора вышла сначала тень, а за тенью – мужик.
Мужик держал в руках, кажется, длинную палку. Жердь.
«Ну вот, пьяные наши васильские по ночам шатаются, да еще с жердями…» – подумал я смутно, невнятно. Запоздалая опаска сдавила сердце, а потом оно сразу ухнуло в глубокий ледяной колодезь.
В пятно лунного синего света вышел Пашка Охлопков. В руках он держал ружье.
Настя тихо охнула. Как вкопанная встала.
– Пашка, – глухо бросила она в теплую, томную ночь, – Пашка… Опомнись…
Пашка вскинул ружье, крепко прислонил приклад к плечу.
«Пьяный, Господи, спаси и сохрани, пьяный ведь», – неслись мысли, быстрей собак охотничьих на гону.
– Сука, – внятно, трезво сказал Пашка и точнее прицелился. Прищурил незрячий, бельмастый глаз. Он целил в Настю. Ей в лоб. Дуло ружья метило аккурат между Настиных широких, крылатых бровей. – Сучка в течке. С попенком снюхалась. Поп-то и рад стараться. Да ведь мужик-то ни в чем не виновен. Знаешь сама поговорку? Сучка не захочет, кобель не вскочит. Знать, сильно захотела, тварь.
И он, не стесняясь спящего крепким, самым сладким полночным сном Василя, в виду темнооких сонных изб, зычно крикнул:
– Убью-у-у-у!
Дернул ружьем. Я все хорошо понял: сейчас выстрелит.
– Настя! – крикнул я заполошно, рванулся вперед и двинул в нацеленный ружейный ствол плечом. Сухо раскатился выстрел. Пуля ушла вкось и вверх, потревожив бедных птиц, ночующих в глянцевой, свежей после грозы вишневой листве.
– Ах ты блядь! – хрипло крикнул Пашка.
Я схватил его ружье обеими руками.
Наши лица друг против друга. Его лицо. Мое лицо.
– У меня дома тоже есть винтовка, – выдохнул я. Воздуха не хватало. Губы горели после поцелуев. – Это я тебя убью.
Я раздул ноздри и уловил изо рта Пашки спиртной запашок.
«Выпил. Не напился пьяный, а так, для храбрости».
Он не выпускал ружье. Крепко, злобно дернул его к себе и меня потянул вместе с ружьем – на себя. Я еле устоял на ногах. Он вырвал ружье. «Ах-ха!» – злорадно крикнул, оскалился. Я не успел опомниться. Он уже бил меня прикладом. Бил не на жизнь, а на смерть. Бил в лоб, в щеку. В скулу. В грудь, и я почувствовал, понял, – сломано ребро, слишком горячей и острой болью налились потроха. «Сейчас ударит в висок, и все кончено».
Я дал ему подножку. Он не выпустил ружья из рук. Колошматил меня им, уже лежа на земле. Как сквозь пелену, до меня донесся слабый крик Насти:
– Люди!.. Помогите!.. Люди!.. А-а-а-а-а!..
Двинул прикладом под колено. Схватил меня за ногу, рванул к себе, к земле с дикой силой. И я повалился.
Я повалился на него, лег на него, мы приварились, склеились разъяренными телами. Катались по земле, рыча, как дикие звери. Рычал он. Рычал я. Тщедушно, безумно помыслил: неужто это я, священник, не на жизнь, а на смерть дерусь с бывшим Настиным… ну да, да, да! – хахалем? С тем, кто ее лишил… лишил… кто первый взял…
На первый-второй рассчитайсь, что ли…
Катались. Дубасили. Кулаки наливались болью и кровью. Морды были расквашены уже, и страшна была Пашкина рожа – красная, под мертвенной синей Луной, опухшая маска. Ну же! Кто кого!
«Ты! Поп! Священник! Ужас! Кто – кого?! Да останови сам… это безумие…»
Он выбросил по земле руку и дотянулся до брошенного на дорогу ружья.
– Люди! Люди! – уже в голос кричала Настя.
– Я тебя… убью…
Пашка уже держал ружье, сидя в пыли. Уже взводил курок.
Я ударил ногой по прикладу. Снова выбил у него ружье из рук. Красная тьма застлала мне глаза. Красную шапку надели на голову. Я стал красным попугаем матушки Иулиании. Я стал красным лоскутом. Красным огнем. Красной кровью. Я больше не был человеком, отцом Серафимом.
– А-а-а-а!
Кто это крикнул? Я? Он?
– А-а-а-а-а!
Может, это кричала Настя?!
Я помню – я размахнулся. Каркнул дикое ругательство красный клюв. И у меня в птичьих попугайских когтях оказалось железное, деревянное, твердое, тяжелое. Да. Ружье. Оно было у меня, я это точно помню. И я размахнулся. И железное, холодное оказалось в моем кулаке, а тяжелое и деревянное полетело вперед. Вперед.
Вперед! Красный попугай ударил. Клювом?! Да, железным, деревянным клювом! Хорошо ударил! Крепко!
«Век помнить будет… Или… уж ничего не будет помнить…»
– Уа-а-а-а-а!.. Уа-а-а-а-а!..
«Так младенцы кричат в колыбели».
Хватка ослабла. Когти разжались.
Красные перья слетали с попугая, слетали на мертвую землю, в жаркую пыль.
Пашка Охлопков катался по земле, зажав рукой глаз, и вопил.
Он вопил как резаный баран.
Как теленок, которого резать ведут; как обреченная свинья.
Я никогда не слышал, чтобы так человек вопил. Визжал, в пыли катаясь.
Я медленно становился человеком. Где красные перья? Где железный клюв? Ружье валялось на ночной дороге. К нам уже бежали люди – кто с кольями, кто с топорами. Бежал Юрий Гагарин, мелко семенил короткими ножками, винтовку в руке сжимал. Володя Паршин широко бежал, и тоже с винтовкой, Володя же был охотник, и собака рядом с Володей бежала, его Рыжуля.
Пашка сел на дороге, весь измазанный пылью. Сгорбился. Не отнимал рук от лица. Сквозь его грязные пальцы сочилась кровь.
– Выбил! Выбил! – кричал он безостановочно. – Выбил! Выбил!