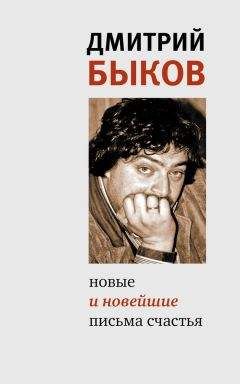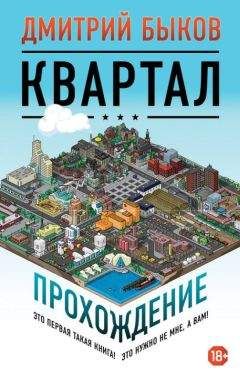Дмитрий Быков - Списанные
— А теперь, дорогие друзья, Жухов Виктор Борисович, я думаю, скажет нам несколько слов, какие он сам найдет, — несколько смешавшись, закончила Бодрова и села к костру.
— Гм, дорогие друзья, — начал Жухов, покашливая. — Я вообще-то мог бы назвать нас товарищами по несчастью, но думаю, что никакого несчастья нет.
Он неуверенно улыбнулся и обвел списантов преданным взглядом.
— Я думаю, что позорная практика составления списков, в которые попадают все не только оппозиционные, но даже и просто думающие люди, продлится недолго и является следствием испуга. Мне кажется, что сейчас нет оснований никого подозревать или включать, и, так сказать, предъявлять. Мне кажется, мы все едины в том, что страна движется верным курсом, в единственно правильном направлении, что сегодня, так сказать, благодаря ли конъюнктуре, благодаря ли, так сказать, дальновидности, но лично мне впервые за нее не стыдно и не обидно. — На словах «не стыдно» голос его вдруг окреп, он выпростался из долгого неуверенного периода, словно из жидкой грязи вдруг высунулся кулак, отчетливо погрозил и растворился снова.
— Слава России! — хором заорали Гусев, Бобров и Панкратов, лежавшие под старой сосной. Панкратов был бледен после больницы, и глазки его воровато бегали. Интересно, что с ним там делали? Хорошо бы клизму… Заорав, все трое тотчас вскочили и взметнули к плечам кулаки, типа рот фронт.
— Слава России, — не очень уверенно повторил Жухов.
— А остальные что лежат? — рявкнул Гусев. — Никто не слышит, что ли?! Слава России!
Никто, однако, не пошевелился. Свиридов очень этому обрадовался. Список явно осознал свое отчаянное положение и обрел на этом временную храбрость — вопрос, насколько ее хватит, но прогресс несомненен.
Гусев чувствовал, что надо спасать положение. Выручил его Бобров.
— Шутка, — крикнул он. — Гыгы бугага. Разрешаю расслабиться.
Они уселись под сосну.
— Продолжайте, пожалуйста, — вежливо сказал Клементьев.
Жухов продолжил. Это была типичная аппаратная речь, путаная и осторожная, пробирающаяся между захлебывающей лояльностью и осторожным несогласием: борьба прекрасного с отличным, злые бояре, идеологические перестраховки, поиски врага, уверения в преданности. Все в этой речи свидетельствовало о твердом убеждении, что каждый второй списант немедленно передаст послание по инстанции, и от Жухова зависело сформулировать послание к власти аккуратно, но убедительно. Я горячо разделяю уверенность, признаю заслуги и поддерживаю все пункты плана. Я четко осознаю, что конфликты ведомств не могут быть выгодны никому, и призываю всех погасить амбиции. Но поскольку есть отдельные охотники на ведьм, способные видеть то, чего нет, то особенно и отдельно подчеркиваю, что не должно быть ни малейшего, никакой, что мы не можем позволять себе считать врагами всех, у кого просто бурлит мысль. И он готов всем опытом, всем влиянием помочь тем, кто оказался вытеснен в несогласные — хотя горячо и искренне готов согласиться и соглашается, и будет соглашаться, если будет сейчас услышан и понят.
— Жухов! — крикнул Бобров из-под сосны. — Зачем вы лжете?
— Что вы сказали? — У Жухова был один выход — сделать вид, что недослышал.
— Чо, чо! В очо! — крикнул Панкратов.
— Зачем вы тут хвостом вертите, Жухов? — нагло орал Гусев. — Вы думаете, мы не знаем ничего?! Такие, как вы, в девяностые годы пенсионеров голодом морили и пенсии прокручивали в «Бэнк оф Нью-Йорк»!
— Кто вас послал, молодые люди? — с достоинством спросил Жухов. Он был старый боец и умел переводить стрелки.
— Это мы тебя сейчас пошлем, мразь! — крикнул Бобров, не трогаясь, однако, с места. — Девяностые годы кончились, Жухов! Иди на площадь Трех вокзалов, встань на колени перед народом, кто-нибудь, может быть, и подаст!
— А мы хотим жить в достойной стране! — заорал Панкратов и дал петуха.
— Иди лесом, Жухов! Проповедуй птицам! — крикнул Гусев.
— Бугага! — грянула вся троица и заулюлюкала.
Списанты молчали. Гусев понял, что придется заходить на второй круг.
— Долой позорные девяностые!
— Долой гламурного людоеда!
— Жухов, твоего сына видели в гей-клубе!
Это взорвало Жухова. Он решительно шагнул к троице, но на пути у него оказался Клементьев. Он встал и решительно остановил опального зама.
— Подождите, Виктор Борисович. Мы разберемся.
Он повернулся к троице:
— Проваливайте, ребята.
— Сам проваливай, старпер! — крикнул Бобров, вскакивая.
— Как ты сказал? — очень спокойно переспросил Клементьев.
— Эй, эй, — вступил Свиридов. Он улавливал настроения списка и чувствовал, что троицу подонков сейчас погонят ссаными тряпками. — Защитники пенсионеров, полегче.
Бобров понял, что не попал в таргет-аудиторию, и несколько смешался.
— Гламурный фашист Свиридов! — крикнул Гусев. — Ты травишь пенсионеров собаками!
— Э! — крикнул невысокий широкоплечий кавказец, которого Свиридов прежде не видел. — Ты базар фильтруй, понял? Тут фашистов нет, все равные!
— Товарищи, товарищи, — хлопотала Бодрова.
— Да они выпили, — крикнул женский голос. — Нажрались и скандалят.
— Пошли отсюда! — крикнул из-под старой березы подросток; совершенный ребенок, он-то как сюда попал…
— Дайте человеку говорить!
— Хамить дома будете!
Этого троица не ожидала. Они не учли простейшего обстоятельства: запуганный, фрустрированный список немедленно ощутил себя более весомым и защищенным, едва к нему присоединился опальный заместитель министра. Это всех списантов делало если не замами, то по крайней мере референтами. Взывать к гражданской совести, пугать бугагаканьем и апеллировать к опыту проклятых девяностых тут было бесполезно.
— Еще встретимся, — сплюнул Гусев и покинул собрание. Панкратов и Бобров последовали за ним.
Акции Жухова значительно поднялись. Все плотнее стянулись к костру и чувствовали теплое единство, как всегда бывает при изгнании меньшинства.
— Главное, все ложь! — напирал Жухов. — Все ложь, товарищи! Я был депутатом Госдумы и голосовал против ельцинских пенсий, специально требовал слова, есть протоколы, товарищи! И о дефолте я предупреждал еще Виктор Степаныча, это есть в его книге, можно было избежать…
До Лужков шли весело, возвращались в сумерках уютной электричкой. Лес за окном темнел, небо густо лиловело, за стеклом почти ничего уже не было видно — проявлялись только отражения. Так и с годами: все меньше видишь мир, все больше — себя, темнеет потому что. Свиридов уселся на одну лавку с Клементьевым, кротким юношей Сальниковым и автослесарем Абрамовым. Жухов демократично ехал той же электричкой, курил в тамбуре с кавказцем, объяснял ему несовершенства миграционного законодательства.