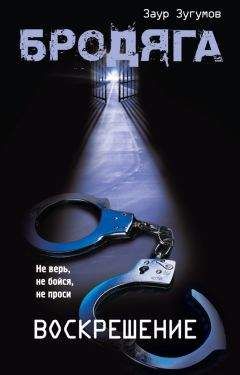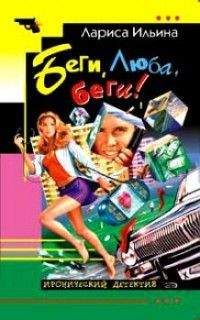Заур Зугумов - Бродяга
Во-вторых, это приграничный город, и, чтобы попасть туда, мы за несколько остановок выходили из поезда и порознь садились в рейсовый автобус. В трех местах до Термеза пограничники проверяли документы и багаж. В самом Термезе «работа» была в основном письмом, а писак, по большому счету, в Средней Азии я встречал очень редко. И в то время я по праву гордился тем, что мог причислить себя к избранной плеяде русских воров-карманников. Среди нас, пятерых, письмом, по большому счету, работал я один. Представьте себе бабая: в «пехе» — так называется скула, то есть внутренний карман пиджака или халата, — у него лежат деньги.
Сверху надет еще один халат, да еще завязан своего рода кушаком прямо посередине живота. Или представьте себе бабая, у которого прямо на голое тело надет пояс с большими ячейками для разных купюр в виде патронташа. Здесь, кроме как письмом, украсть было никак невозможно. Конечно, это было рискованно, требовался немалый опыт, абсолютное понимание партнеров, но зато цель всегда оправдывала средства, куш мы срывали всегда большой. Что касается разговорной речи, которую употреблял преступный мир Средней Азии, то есть жаргона, или, как чаще его называли, фени, то она была своеобразна и резко отличалась от российской. Вообще в преступном мире существуют такие выражения: российская феня, колымская и питерская. Самой простой и распространенной была российская, самой же сложной и витиеватой — колымская, все же остальные были не чем иным, как пародией на ту же феню. Но помимо общепринятой фени преступного мира страны была еще и чисто индивидуальная феня, придуманная только для карманников. Везде она имела одинаковое значение, только в некоторых регионах варьировалась. К слову сказать, всеми ими в свое время я овладел в совершенстве. И думаю, будет нелишним в конце этой книги дать маленький словарь этой фени.
Термез того времени напоминал большой караван-сарай — кого здесь только не было. Однажды возле духана за кирпичным заводом я разговорился с одним старым таджиком: нам нужен был хороший терьяк для отправки в Андижан, в крытую, и на «Караул-базар» в зону — там, кстати, был единственный в Узбекистане особый режим. Засомневавшись в качестве товара, я сказал об этом погонщику. Он молча повел нас к еще не развьюченным ишакам, которые стояли за оградой в стойле, и, чуть прищурив и без того узкие глаза, сказал нам: «Посмотри, могут эти ишаки быть коммунистическим видом транспорта?» И, ловко нагнувшись, достал откуда-то из-под хурджина сверток, весь пропитанный маслом, в котором был завернут чистый афганский терьяк. Здесь, в Термезе, я даже встретил своих земляков, золотых дел мастеров. Много среди них было пограничников и чекистов. И что удивительно, чекистов было больше, чем милиции. То есть внутренние проблемы, видно, тогда отодвигались на второй план перед внешним врагом, коим считался Афганистан и весь капиталистический мир в целом. Тогда еще наши войска не вступали в Афганистан, кругом был мир и относительное спокойствие. После одной из поездок, когда мы возвратились назад в Самарканд, а жили мы в то время все вместе в одном частном доме, возле фабрики 8 Марта, меня ждало письмо из дома. Я сразу понял, что известия в письме важные, так как почерк на конверте был материнский. В письме мать писала, что бабушка находится в тяжелом состоянии, и, будучи медиком, она была уверена, что долго ей не протянуть.
Заканчивалось письмо такими словами: «Если ты еще совсем не потерял совесть, то приезжай повидаться, а возможно, и проститься, с человеком, который тебя воспитал, она тебя ждет». Такое письмо я, естественно, не мог проигнорировать. Провожала меня в аэропорту вся бродяжня, с которой я последнее время жил и воровал. Ляля даже прослезилась, что с ней бывало очень редко. Мы друг другу ничего не обещали, уже наперед зная, что судьба все равно сделает по-своему. И кто бы мог подумать или предположить, что в следующий раз я смогу ступить на эту землю лишь 18 лет спустя. Но это особая глава в моей жизни, и о ней я расскажу позже, а пока, простившись со всеми чисто по-жи-гански, я сел в самолет и уже через несколько часов был в Баку.
А еще через час мчался на такси в Махачкалу и уже вечером был в объятиях своей бабушки, которая, лежа в постели, прижимала меня к своей груди и тихо плакала. С моим приездом мою бабулю будто подменили. Через несколько дней она уже поднялась с постели, а еще через неделю была почти здорова и отпускала всякие шуточки в адрес пессимистов. Бывает такое в медицине, когда встреча с родным человеком замедляет процесс болезни, а порой и останавливает его. В общем, так или иначе, а бабушка моя была здорова. Мать моя хотя и была медиком, но была глубоко верующим человеком, она, естественно, причисляла выздоровление бабушки к воле Всевышнего, а потому заставила меня поклясться, что никогда больше я не возьму ни у кого ничего чужого. И если я нарушу свою клятву, то Бог тут же покарает меня. Чтобы не обидеть мать, я, конечно, дал ей такую клятву, в душе же не веря ни в Бога, ни в черта. Так мне тогда казалось. Впоследствии я понял, что данную клятву действительно нужно держать, ведь сделка с Богом чревата самыми страшными последствиями. Прямо перед Новым, 1971 годом, 17 декабря, я сел, и, как я писал ранее, в скором времени умерла моя бабушка, случайно услышав от моего пьяного отца, что внук ее вор и сидит за это в тюрьме.
ЧАСТЬ VII. СТРАНСТВИЯ И МЕЖДУ ПРОЧИМ ЖЕНИТЬБА
Честность — прекрасная вещь, если кругом все честные, а я один среди них жулик.
ГейнеГлава 1. ЛАГЕРЬ В ОРДЖОНИКИДЗЕ
Человек, попавший в тюрьму, даже если он знал, что не сегодня завтра его могут лишить свободы, чувствует себя зверем, попавшим в капкан. Мозг его работает в двух направлениях: во-первых, как выбраться из этого капкана, вплоть до того что он готов отгрызть себе лапу, и, во-вторых, как лучше обустроиться в этих, ничего общего не имеющих с человеческими условиях. Что же касается душевного состояния… Во времена далекой древности человеку при очень серьезных ранениях делали надрезы либо на руке, либо на ноге. Организм, таким образом, на некоторое время переключался на ту боль, которая была ему причинена только что, и тогда лекарь получал возможность обработать серьезную рану. Проще говоря, боль отвлекали болью. То же самое происходит и в душе арестанта. Все жизненные невзгоды и проблемы, которые могут возникнуть на воле, меркнут перед ужасом заключения под стражу. И даже если на свободе человека постигло большое горе, тюрьма посодействует в его быстром выздоровлении, как бы парадоксально это ни звучало. Боль, связанная с тюремным бытием, отвлечет человека от любых бед, которые случились с ним или его близкими вне тюрьмы. Махачкалинская тюрьма начала 70-х годов ничем не отличалась от других тюрем страны, за исключением, пожалуй, некоторого рода нюансов регионального характера. Но эти отличия могли увидеть только те, кто уже побывал в заключении, и поэтому могли делать соответствующие выводы. В зависимости от принадлежности арестанта к определенной ступени иерархической лестницы в преступном мире можно было видеть разное проявление чувств и эмоций. Если они выражались только в виде устных жалоб, без нарушения тюремного устоя, то это было мужицкое проявление недовольства. Если же заключенный вел себя дерзко и без каких-либо уступок отстаивал интересы других зеков, а также учил их, как нужно правильно вести себя в тюрьме, то это были люди из воровской масти. В большинстве случаев к ним прислушивались, но иногда бывало, что и коса находила на камень. Однако все же основная масса понимала, что справедливость, порядок и дисциплина, к чему призывали эти люди, были необходимы в этих условиях. Национализм — этот главный бич не только преступного мира, но и человечества в целом — здесь проявлялся крайне редко. Возможно, из-за того, что в Дагестане живут люди многих национальностей. Главными критериями оценки человека были стойкость, смелость, смекалка, все остальное отодвигалось на второй план. Сила также не играла главной роли, на этот счет в заключении даже бытовала поговорка: «И слона в консервную банку закатывают». В основном, конечно, больше всего неприятностей происходило с сельскими людьми. Выросшие, как правило, в горах, они никогда ни в чем не имели ограничений, и поэтому очень тяжело переносили тюремное бытие и никак не хотели мириться с устоями тюремного общества. Но обычно уже в первые полгода они перевоспитывались, а впоследствии их было не узнать. В общем, как я и писал выше, тюрьма Махачкалы ничем особым не выделялась среди заведений подобного рода. После моего первого заточения в эту тюрьму прошло десять лет. По большому счету, здесь ничего не изменилось, только крытого режима уже не было. Ну и некоторые незначительные перемены произошли, о которых не стоит упоминать. Так же как и десять лет назад, пробыл я здесь недолго, около шести месяцев, а летом 1972 года меня перевели в лагерь общего режима в Орджоникидзе, поселок Дачный, где мне предстояло отбывать два года. После того как этап впустили в зону, в течение нескольких дней, как обычно, пришлось знакомиться с ней и, как ни печально было признать, но это не лагерь, не обитель каторжан, а раковая опухоль на теле преступного мира. Здесь процветал полный беспредел во всех его проявлениях и ярый национализм. За людей признавались только представители трех наций: дагестанцы, чеченцы и осетины. И хоть это был осетинский лагерь, но в разборках они значительной роли не играли. Если и происходили какие-либо противостояния, то в основном между дагестанцами и чеченцами. Русские признавались только в том случае, если они были коренными жителями Кавказа, да и то если они что-то из себя представляли, все же остальные подвергались всякого рода издевательствам, вплоть до изнасилований. Я много слышал на свободе о лагерях общего режима, сам интересовался некоторыми вещами, потому что знал: рано или поздно и мне не миновать этих стен. Знал, конечно, и то, что почти все эти лагеря за исключением некоторых лагерей Грузии были беспредельными. Это происходило из-за первоходочников — основной массы контингента общего режима. Наркотики здесь не переводились, в каждом отсеке были гитары, водка, анаша. Кто как хочет, тот так кайфует. Захочешь подраться, дерись хоть каждый час, даже для этого дела в лагере было выделено определенное место. И все это происходило в то время, когда в любом другом лагере за найденную пачку чая могли посадить в бур.