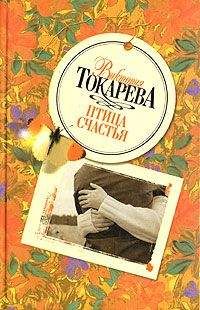М. Стедман - Свет в океане
Этот образ то и дело вставал перед глазами Тома, когда он думал об Изабель после допроса Наккея. Ему вспомнилось, как после последнего выкидыша он пытался успокоить и утешить жену.
— Все будет хорошо! Даже если Бог и не даст нам детей, я буду счастлив до конца жизни, потому что у меня есть ты.
Она медленно подняла глаза, и ее взгляд выражал такое отчаяние и безысходность, что у Тома кровь застыла в жилах.
Он хотел коснуться ее, но она отодвинулась.
— Иззи, все обязательно наладится. Вот увидишь! Нужно просто набраться терпения.
Она неожиданно вскочила и тут же согнулась от резкой боли, потом выпрямилась и, прихрамывая, бросилась в ночную мглу.
— Иззи, Бога ради, стой! Ты упадешь!
— Я знаю, что делать!
На безоблачном небе тихой теплой ночи качалась луна. Длинная белая ночная рубашка, которую Изабель надела в их первую брачную ночь четыре года назад, казалась крошечным бумажным фонариком в безбрежном океане темной мглы.
— Я больше не могу! — закричала она так громко и пронзительно, что разбудила коз, которые заметались по загону, звеня колокольчиками. — Я так больше не могу! Господи, ну почему ты оставляешь в живых меня, а не моих детей? Лучше смерть! — И она, спотыкаясь, бросилась в сторону утеса.
Он догнал ее, обнял, но она вырвалась и снова побежала, то и дело корчась от приступов резкой боли.
— И не надо меня успокаивать! Это ты во всем виноват! Ненавижу это место! Ненавижу тебя! Верните мне ребенка! — Высоко наверху ночную мглу прорезал луч маяка, но тропинку он не осветил. — Ты не хотел его! Поэтому он и умер! Он знал, что был тебе не нужен!
— Успокойся, Изз. Пойдем домой.
— Ты же ничего не чувствуешь, Том Шербурн! Я не знаю, что ты сделал со своим сердцем, но у тебя его нет!
У каждого человека есть свои пределы того, что он может вынести. Том не раз в этом убеждался на фронте. Он знал здоровых и сильных парней, которые прибывали с пополнением, горя желанием задать фрицам жару, годами выносили обстрелы, мороз, вшей и грязь, а потом вдруг ломались и уходили в себя, где до них невозможно было достучаться. Или внезапно, как безумные, бросались со штыком наперевес, смеясь и плача одновременно. Господи, стоит только вспомнить, в каком он был сам состоянии, когда все кончилось…
Разве можно осуждать Изабель? Она просто дошла до своей черты, вот и все. У каждого есть такая черта. У каждого. И, забрав у нее Люси, он заставил ее переступить эту черту.
Той же ночью Септимус Поттс снял ботинки и размял пальцы в тонких шерстяных носках. Привычно хрустнули кости в спине, и он невольно охнул. Старик сидел на краю массивной деревянной кровати, вырезанной из эвкалипта, срубленного в его собственном лесу. Тишину нарушало только мерное тиканье часов на тумбочке. Он со вздохом окинул взглядом роскошный интерьер своей спальни, освещенной электрическими лампами в матовых розовых плафонах: крахмальное белье, сверкающий глянец на мебели, портрет покойной жены Эллен. Перед ним снова возник образ перепуганной и растерянной внучки, похожей на затравленного зверька. Никто не верил, что она могла выжить, и только Ханна не теряла надежды. Жизнь! Кому ведомо, что нам в ней уготовано?
До сцены в саду он был уверен, что после смерти Эллен ему больше никогда не приведется видеть на лицах близких такого отчаяния и безутешного горя от потери матери. Казалось, что жизнь уже не могла преподнести ему никаких сюрпризов, но как горько он ошибался! Представив всю глубину страданий малышки, он почувствовал, как предательские сомнения закрадываются в его душу. Кто знает… возможно, отнимать у девочки женщину, которую она считала матерью, было слишком жестоко…
Он снова взглянул на портрет Эллен. У Грейс такой же подбородок. Может, она вырастет такой же красивой, как и ее бабушка. Снова нахлынули воспоминания, вернув его в прошлое, и перед глазами пронеслись картины семейных праздников, когда они все вместе отмечали Рождество и дни рождения. Он так хотел, чтобы в их семье все было хорошо! Ему вспомнилось искаженное мукой лицо Ханны, и стало не по себе от стыда: точно такое же выражение было и у него, когда он пытался отговорить дочь от брака с Фрэнком.
Нет! Девочка должна находиться с ними, ведь это и есть ее настоящая семья! Они же в ней души не будут чаять! И в конце концов она привыкнет к своему настоящему дому и родной матери. Только бы у Ханны хватило сил все это пережить и дождаться.
К глазам подступили слезы, и старик почувствовал, как его охватывает гнев. Кто-то должен за это ответить! Ответить за все страдания, которые причинили его дочери! Как можно было найти крошечного младенца и оставить его себе, как какой-то сувенир?
Септимус отбросил назойливые сомнения. Он не мог изменить прошлого и те годы, что отказывался признавать существование Фрэнка, но в его силах было хоть что-то сделать сейчас! Шербурн понесет наказание за те страдания, что причинил Ханне. Обязательно!
Старик погасил лампу и снова посмотрел на портрет Эллен в серебряной рамке, тускло поблескивавшей в лунном свете. И выкинул из головы все мысли о переживаниях, которые наверняка не давали Грейсмаркам спать той ночью.
Глава 27
С момента возвращения в Партагез Изабель постоянно ловила себя на мысли, что ищет Люси — куда она могла запропаститься? Не пора ли укладывать ее спать? Чем она будет кормить ее на ужин? Затем разум напоминал обо всем случившемся, и она каждый раз заново переживала трагедию потери ребенка. Что происходит с ее девочкой? Кто ее кормит, переодевает? Люси наверняка никак не может успокоиться!
При мысли о том, как жалобно сморщилось личико девочки, когда ее заставили проглотить горькую таблетку снотворного, у Изабель комок подкатывался к горлу и сжималось сердце. Она старалась вытеснить эти воспоминания другими: как Люси играла в песке; как закрывала нос, прыгая в воду; как спала ночью — такая спокойная, тихая и безмятежная. На свете нет ничего прекраснее, чем наблюдать за своим спящим ребенком. Воспоминания о Люси хранила каждая клеточка Изабель: пальцы помнили мягкость волос, когда она их расчесывала; бедра помнили тяжесть сидевшего на них ребенка и как она крепко обхватывала ее за талию своими ножками; какая мягкая у нее на щеках кожа…
Она погружалась в эти воспоминания и находила в них утешение, будто нектар в умирающем цветке, и при этом сознавала, что где-то глубоко внутри в ней поселилось нечто темное, посмотреть на которое она не решалась. Это приходило к ней во сне, непонятное и страшное, и звало: «Иззи, Иззи, любимая…» — но она не могла обернуться и только съеживалась, будто хотела плечами закрыть уши и ничего не слышать. Она просыпалась, жадно хватая воздух и чувствуя тошноту.