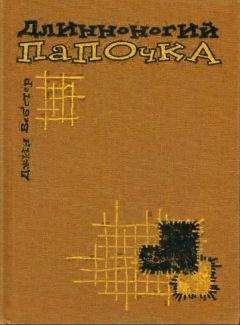Ромен Гари - Европа
— Scusi, signore, scusi, — пробормотал этот неприятный субъект, улыбаясь и кланяясь, что уже граничило с раболепием. — Дверь была открыта… Я позволил себе… У меня есть кое-какие изделия, которые во все времена прославляли Флоренцию во всем мире, и я покорно прошу ваше превосходительство осмотреть их со снисходительностью, которой заслуживает отец многочисленного семейства, одиннадцать bombini и жена, которая нуждается в самом серьезном лечении…
Он приподнял лоток со своим барахлом, чуть отступив назад в очередном поклоне, и быстро оглянулся, сознавая, какой опасности подвергнется его тыл, если не вовремя появится кто-нибудь из слуг.
— Будьте любезны, убирайтесь, — сказал Дантес с таким раздражением, что сам удивился: обычно он скорее симпатизировал этим бродягам, шатающимся по улицам Флоренции.
Но в этом вторжении чувствовалось что-то немножко угрожающее, не только из-за вульгарности и вкрадчивости торговца, но главным образом потому, что Дантес остерегался следующего хода противника и ни на секунду не забывал о Бароне, склонившемся над шахматной доской; нельзя знать заранее, какую фигуру внезапно вынет из рукава этот мошенник.
Он шагнул по направлению к непрошеному посетителю, и разносчик исчез как по волшебству — Дантес сразу же осознал возможное значение этого выражения, когда из-за штампа проступила зловещая улыбка Мальвины фон Лейден. Он последовал за субъектом в гостиную, чтобы задать ему пару вопросов, но мнимый разносчик уже испарился. В воздухе еще витал легкий запах чеснока и кислого вина, он даже успокаивал своей материальностью, ибо скорость, с которой исчез посетитель, немного встревожила Дантеса. Он любил выбирать по своему усмотрению тех, кого хотел выдумать, но терпеть не мог, когда становился предметом чьего-то воображения сам. Если это неожиданное появление новой фигуры на поле дело рук противника, нужно приложить все усилия, чтобы разгадать ее роль в стратегии последнего и как можно быстрее ответить. Возможно, Барон просто хотел сбить его с толку, а настоящая опасность кроется совсем в другом. Каждому игроку знакома минута, когда последовательность событий выстраивается на двадцать-тридцать ходов вперед, и вдруг гений одного из противников проделывает непредсказуемый маневр, который полностью меняет характер всей партии.
Он стоял в одиночестве посреди гостиной, заполненной бесконечными зеркальными отражениями, которые словно пытались компенсировать свою незавершенность настойчивостью, но не могли отделиться от чертежей и пунктирных рисунков, чтобы достичь полноты созданного произведения. Дантесу казалось, что сам он тоже находится в плену у несостоявшегося. Видимо, он снова терял очертания и расплывался от усталости. Его окружала геометрия пустоты: плоскости, углы, прямые линии без изгибов и колебаний — выверенная и стройная хореография отсутствия, — и он осознавал себя объектом какой-то спотыкающейся математики, которая искала четкие формулировки и дефиниции, и он, простая данность, не мог участвовать в этом поиске. Вокруг него сумерки стирали контуры и контрасты, успокаивали его своей неясностью, с прилежностью художника смягчая избыточную игру красок, приглушая последние рулады ярко-итальянского неба, тихо скользя в сопровождении кораблей-призраков — кораблей-дураков в виде облачной гряды. Дымы, легкие туманы, последние лучи солнца, навсегда утонувшие в озере, светящиеся кольца на воде вокруг упавшего листочка или насекомого, а потом нет ничего и никого, и его самого тоже, дыхание в пустоте, быстротечные, но претендующие на вечность мгновения, скользящие по тяжелым шестерням Времени, чеканя из него живую монету, последние жаркие ласки земли, материнское лоно, на которое еще не опустились покровы, жажда всепрощения в сердце и в мыслях и сострадание, полное тихой нежности Святой Девы. Близился час, когда они с Эрикой должны были отправиться на лодочную прогулку, но он медлил в своем затишье, в этом неспешном блуждании Времени, которое подплывало и удалялось в царственном лебедином покое. Он выходил из своей оболочки, удалялся от себя, не оставляя за собой, среди чертежей, ничего, кроме манекена, установленного на паркетном полу в позе играющего на лютне. В глубине зеркал шевелилось что-то неразличимое. В этом тайном, осторожном брожении зарождалось творение, природу которого пока нельзя было угадать. Иногда в переменчивой массе, впрочем нежной и даже ласковой, вылеплялась улыбка сострадания — возможно, не более чем произведение искусства, ибо жалость в наше время встречается все реже.
LV
Барон, с ластиком в руке, оглядывал мир и кое-что стирал — пару непрошеных галактик, несколько бездн, чья таинственность наводила уже чрезмерную тоску, избытки реалистичности и прочности и беспощадность, которые не согласовывались с природой творения, повествовавшего о человеке. Дантеса окружали понимание и снисходительность — это было женственное время. А может быть, всего лишь «Мадонна» Рафаэля. Он долго впитывал в себя это сострадание, подняв лицо навстречу улыбающейся нежности. Потом он вышел на террасу и с удивлением заметил, что в этот увязший в неподвижности час вечерние тени были слабее, чем ему виделось изнутри. Озерная свежесть в воздухе тоже показалась ему знаком милосердия, и он очнулся под ее бесплотными пальцами, забирающими жар со лба и висков. В небе метались ласточки, озеро отдыхало, нагое, скинув во сне покровы; туман еще нежился в камышах; он облокотился о каменную балюстраду; шмель, врезался в щеку; стихающий стрекот цикад; еще не спрятавшиеся на ночь божьи коровки; пяденицы. Дантес ждал, когда Время снова заведет стрелки и придаст разрозненным мгновениям последовательное движение муравьиной колонны; сумерки разрослись в медленно рассеивающейся неподвижности, они как будто окутали сад сетью сновидений, и в ней бились пойманные бабочки-секунды. Время потеряло память. Тогда он увидел, что парк, вода и небо не только не потемнели, но озарились, что свет возвращался, с пренебрежительной улыбкой отметая законы, капризно непослушный, и что само солнце уступало этой женственной фривольности, как влюбленный, который хочет понравиться. Небо, уснувшие воды, темный и неясный берег напротив объединились в розово-легкую пастораль в стиле Буше — качели и открытые туфельки, — и в этой неопределенности, в этой путанице, соучастником которой вопреки своему высокому сану сделалось солнце, оно превратилось из Цезаря в Арлекина. И тогда посол понял, приходя в себя вместе с возвращением света, что ночь уже прошла и этот длительный полумрак был долгим полусном.
Все очертания еще сохраняли неясность. Ночные страхи были всего лишь произведением, которое ему нужно было бы записать.
Он не заметил, как она пришла. Когда он услышал ее смех, влившийся в первые песни рассвета, и обернулся, она стояла у подножия мраморной лестницы, немного театрально распахнувшей перед ней руки, одетая в белый пеньюар, словно позаимствованный у первых утренних туманов. Она держала поднос, соблазнявший фруктами, кофе и хлебом, в отливах серебра и сверкании хрусталя, и над всем этим танцевали осы, которые бросили розы, едва почуяли сахар.
— Вы, наверное, голодны? Один, без прислуги… Идите сюда. Завтрак подан. Я не могу к вам подняться: терраса видна из комнаты мамы, а она не расстается с биноклем… За вами наблюдают. Помните: мы еще не встретились…
Он спустился, и они вместе уселись на ступени. Обжигающий кофе, тосты, над которыми обнажались зубы Эрики, белые, почти как у ребенка, учтивое внимание к осам, мед… Некоторое время он просто смотрел на нее, такую светлую без черных одежд и теней, которых он немного боялся — они напомнили бы ему вчерашнее безумие, страх потерять ее навсегда.
— Вы меня вчера немного напугали…
Она положила на его руку свою и сказала:
— Я знаю, не будем об этом, хорошо?
— Простите.
Она чуть-чуть помрачнела, рассказывая, какое беспокойство внушала ей мать. Она должна была признать, что настойчивость, воскресившая историю двадцатипятилетней давности, отдает сумасшествием. Ма все время переживала свою любовь к Дантесу и ту аварию, в которой он был неповинен, потому что машину вела она. Постоянные обвинения в низости и трусости, которые она ему предъявляла, в конце концов становились невыносимыми. Это был действительно чудовищный вымысел, ведь ее молодой любовник порвал с «хозяйкой замка» задолго до аварии.
Дантес небольшими глотками пил кофе. Он покачал головой.
— Очень трудно проследить все тайные пути души, — сказал он. — Да, машину вел не я, и к тому же я и в самом деле порвал с вашей матерью до того…
Посол вынул платок и отер лицо и шею, стараясь скрыть дрожание рук. Ему хотелось выкрикнуть правду, выбраться из лжи, но он никак не мог преодолеть психологический барьер, такой прочный, как будто его строил каменщик.