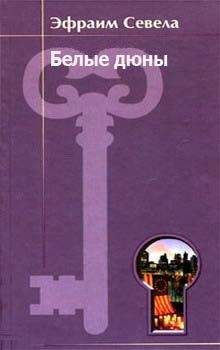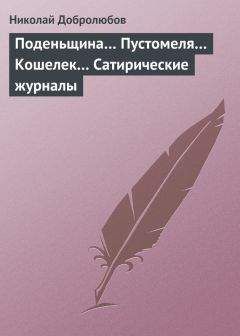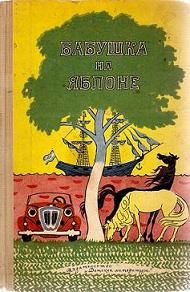Ричард Фаринья - Если очень долго падать, можно выбраться наверх
Однако несмотря на все позы, Гноссос стремится утвердить собственную этническую идентичность. Греческое происхождение связывает его с архетипами и мифами, как с некой опорой в беспорядочном постсовременном мире. Правда, стремление это принимает подчас вполне мирские формы. В рюкзаке, юнговом сосредоточии его идентичности, хранятся разнообразные символы греческого наследства: листья долмы, греческое вино, заплесневелый козий сыр. Серебряные доллары — тоже стремление к Реальному, к Подлинности, они — монеты королевства, куда более настоящие, чем бумажные заменители. Объясняя декану Магнолии, почему он пользуется серебряными долларами, Гноссос говорит о том, «какое количество паразитических колоний разрастается посредством долларовых банкнот». Когда кассирша кафетерия с подозрением смотрит на серебряные доллары, Гноссос объявляет себя королем Монтесумой и грозится вырвать у этой женщины сердце и съесть его сырым. Очередная поза, очередная иллюзия геройства и величия, погоня за архетипами древности и попытка мускулизации настоящего — эфемерного, коррумпированного и искусственного. Все это воплотилось в кассирше — «запах дешевых тайн из „Вулворта“, губы сморщены, вся страсть высосана и выссана за ненадобностью двадцать лет назад. Покорность — вот мой враг».
Столь же высокомерно Гноссос ведет себя и с платиноволосой девушкой из магазина. «Глухая к зову судьбы» — вот как он представляет и расписывает ее жалкое будущее:
Через год на переднем сиденье древнего «форда» она будет раздвигать ноги для бухого наездника с насосом. Пялиться в одном нижнем белье на «Дымящееся ружье» — повсюду банки из-под «Черной этикетки», в вонючей колыбели орет косоглазый ребенок. Эх. Иммунитет дарован не всем.
И как в сцене с Монтесумой, героическая поза нужна Гноссосу для того, чтобы утвердить свое превосходство над этой девушкой; объясняя, зачем ему нужно масло для ванны, он говорит: «Это такой античный обычай, бальзам для воинов, чтобы приятно было пощупать, правильно?»
Как и все прочие воплощения его сущности, греческая пища и серебряные доллары соседствуют в рюкзаке с символами детских фантазий, вроде заячьих лапок («Задобрить псов и демонов, сунуть нос в каждую мистическую дверь»), и кодографом капитана Полночь, у которого ломается пружинка в один из самых значимых моментов романа. Осознав, что на нем лежит часть вины за самоубийство Симона, такого же, как и он, студента, узнавшего, что его подружка влюблена в Гноссоса (который и совратил ее в одной из предыдущих глав), он переживает, возможно, самую дурацкую эпифанию во всей мировой литературе:
…набродившись по улицам в безнадежных попытках успокоить маслянистое чувство вины, выбросить из головы проклятый образ Симона, присосавшегося к выхлопной трубе, он полез в рюкзак за склянкой с парегориком в надежде усмирить растерзанные нервы. Но вместо этого обнаружил кодограф — там же где оставил, в постели из заячьих лапок, — со всей невинностью бездушного предмета аккуратно разломившийся пополам. Гноссос повертел его в руках, и из кодографа с тихим звоном выскочила маленькая секретная пружинка Капитана Полночь, содрогнулась и безжизненно умолкла.
Этот пассаж содержит несколько важных параллелей, больно задевающих совесть Гноссоса. Его страсть к пропитанным опиумом сигаретам накладывается на образ Симона, присосавшегося к выхлопной трубе: одна картина — подсознательная имитация другой. «Маслянистое чувство вины» заставляет вспомнить более раннюю сцену с монсиньором Путти, который приходит провести соборование, но вместо этого умасливает ноги Гноссоса, объясняя, что они «несут человека к грехам». И вот теперь Гноссос пытается «успокоить» свое чувство вины; бродя по улицам, ищет эпифанию своей потерянной невинности и находит ее на «постели из заячьих лапок». Темы бегства и вины, тщетных предостережений и безрассудства соединены настолько неразрывно, что кажется, будто они преследуют друг дружку по вечному кошмарному кругу.
3) Жажда смерти
Не слишком ли много я вычитываю в содержимом рюкзака? Возможно. Но эта эпифания слишком похожа на другую, описанную Фариньей в рассказе «Финал молодого человека»; в нем американец взрывает в Ирландии патрульную лодку и только потом узнает, что на борту находились люди. Осознание своей ответственности за гибель других людей означает для героя потерю невинности и самой молодости, точно так же, как теряет невинность Гноссос — символом этой потери в романе становится «взрыв» кодографа. В интервью Ричи Унтербергеру, корреспонденту газеты «Urban Spacemen and Wayfaring Strangers», Кэролайн Хестер вспоминает, что Фаринья действительно прошел в Ирландии через подобное испытание, когда члены ИРА убедили его, что на борту приговоренной к взрыву лодки не будет людей. Кэролайн Хестер не упоминает этот рассказ, но она уверена, что история глубоко повлияла на Фаринью и многое объясняет в его последующих поступках. Мими Фаринья в примечаниях к книге «Долго возвращаться, долго уходить» также пишет о его мнительности. Смерть — частый гость и в музыке Ричарда Фариньи. Вполне возможно, что в песне «Девушка-ворон», в примечаниях к которой есть слова «жажда смерти», нашло отражение чувство вины за ту взорванную лодку.
Песок, что ползет с приливом
Мои заберет следы
Омоет усталое тело
Шепот глубокой воды
Мучил ли Фаринью шепот тех погибших людей? Подобно Улиссу Теннисона, потерявшему в море всех своих друзей, и уже в преклонные годы обнаружившему, что «бездна стенает тьмою голосов» Фаринью мучила память о погибших в той лодке людях.
Наверное, именно жажда смерти так привлекла Фаринью и в стихотворении Микеланджело «Спи». Он цитирует эти строки в «Если очень долго падать», а также в коротком рассказе «Отрада камня». В рассказе стихотворение приводится по-итальянски.
Caro m' il sonno e pi l'esser di sasso
Mentre che'l danno e la vergogna dura,
Non veder, non sentir, m' gran ventura;
Per non me destar, deh! parla basso.
В романе Гноссос переводит на земляческом сборище несколько строк на английский:
О, в этот век, преступный и постыдный,
не жить, не чувствовать — удел завидный.
Вот перевод всего четверостишья:
Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный…
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
«Отрада камня» представляет собой еще одну версию изложенной в романе истории с волком. В предисловии 1983 года Пинчон утверждает, что Фаринья рассказывал эту историю много раз. Опыт близкого знакомства со смертью, изложенный в обеих версиях волчьей истории, наверняка глубоко затронул героя и автора и вместе с чувством вины (vergogna) сообщил ему два конфликтующих устремления — жажду смерти и уверенность в собственной исключительности, два импульса, которые, как мне кажется, никогда на страницах романа не побеждают друг друга и никогда между собой не разделяются. Не на все вопросы можно ответить — искусство дано нам не для поиска простых решений, расшифровки и выяснения. Сломанный кодограф покончил с легкими ответами детства, и Гноссос жестоко высмеивает их простоту. Когда Памела спрашивает: «Ты не можешь говорить без загадок?», Гноссос думает про себя: «Всегда будь движущейся мишенью», и отвечает саркастически: «Дай определение вещи, и она тебе больше не нужна, правда?»
Но душевное равновесие лежит для Гноссоса между мирной, полуопределенной жизнью среди наркотиков и нервной энергией вечно движущейся мишени. Его жажда смерти — тоска о покое, о том, чтобы перестала мучить совесть. Неисполнимость этого желания наполняет его презрением к тем, у кого есть в жизни толика этого самого покоя, тем, кто «глух к зову судьбы». В песне «Продается вальс смятения» Фаринья уничижительно говорит о людях, которые «не знают, что каждое утро просыпаются мертвыми». Смерть — его тайное желание; он парит между полной надежд жизнью и притягательностью смерти: «О, милая Смерть, как же я люблю дразнить твою косу».
Здесь и лежит основной конфликт протагониста. Он ушел на поиски Реального, но вместо этого нашел реальность — ужасную настолько, что ее не вынести без анестезии. Оттого он и анестезирует себя наркотиками и притворным спокойствием, объявляет супергероем, просто героической фигурой истории или мифов, но самое главное — это декларация Исключения.
4) Исключение
Иллюзия исключительности уходит для Гноссоса в мучительный опыт странствий: он чуть не умер в холодных снегах Адирондаков, преследуя волка; он видел в Лас-Вегасе взрыв атомной бомбы; на его глазах пачуко в Нью-Мексико пытали бойскаута. Избавление от опасностей вселили в него вполне осознанную веру в собственную исключительность:
Я был в пути, чучело, в некотором смысле это паломничество, я видел огнь и чуму, симптомы великого мора. Я — Исключение.