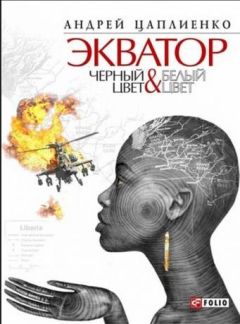Андрей Цаплиенко - Экватор. Черный цвет & Белый цвет
Утреннее солнце в тот день особенно быстро раскалилось до нормальной дневной температуры. Внутренности «фольксвагена» нагревались с каждой минутой и вскоре стали напоминать интерьер микроволновки, включенной на среднюю мощность. Не знаю, был ли кондиционер в пассажирском отсеке, но думаю, что вряд ли. Нашим вертухаям тоже приходилось несладко. Сюда бы их, к нам, ну хотя бы одного. А одного из нас на освободившееся место. Обмен. Ченчж.
Машину сильно трясло по дороге. Она подскакивала на каждом ухабе. Меня подбрасывало вверх. Я ударялся головой о металлические стены. Пытаясь удержать равновесие, я упирался ладонями в пол. Но кончики пальцев обжигало горячее железо. Подогревают они его, что ли, снизу? Если это так, думал я, то удивляться не следует. Нацисты, неугодных и лишних людей в душегубках возили. Четыре минуты, и нет человека. Они нерационально использовали свои возможности. За четыре минуты разве возможно насладиться страданиями подвластных тебе людей? Конечно, нет. А микроволновая печь на колесах в режиме медленного подогрева, разве это не может впечатлить? Конечно, может. Но я знал, как избавиться от мучений. Я вспоминал то, что мне говорила Мики, вспоминал ее полноватые губы, слегка изогнутые озорной и страстной улыбкой, и мысленно начинал с ней древний разговор. Настолько древний, что слова стали тайным шифром. И когда ты их произносишь, ты всегда говоришь не то, что думаешь.
ГЛАВА 32 — ЛИБЕРИЯ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, ИЮНЬ 2003. МИКРОВОЛНОВКА НА КОЛЕСАХ
— Ты любишь Либерию? — спрашивает меня она.
— Я люблю тебя, — отвечаю я как можно нежнее.
Она смотрит на меня своими карими глазами, такими же твердыми и желанными, как местные бриллианты.
— А я ненавижу Либерию. Я ненавижу бедность, от которой не могу отгородиться. Ненавижу дорожную пыль, заползающую под одежду. Ненавижу проституцию. Ненавижу войну и оружие. Я хочу от этого кошмара избавиться.
— Если ты от него избавишься, тебе станет скучно. Тебе будет не хватать родного кошмара.
Она приближается ко мне и прижимается своей большой грудью к моему телу, а я выгибаюсь, как пружина, стараясь повторить весь рельеф ее тела. Я хочу проникнуть сквозь ее кожу, я чувствую, как она пахнет. Медом и свежим деревенским молоком. А еще миндалем. Таким молодым и почти психотропным.
— Ты чувствуешь меня? — она дышит мне прямо в ухо. — Мне тридцать лет. Почувствуй их. Мое тело хочет дать новую жизнь. Но у меня не было детей. Понимаешь ты это или нет? Понимаешь, почему так? Я не хочу, чтобы мои дети родились здесь, в этом зоопарке для хищников. Я хочу быть там, где нужно бояться завтрашнего дня, а не сегодняшнего.
Она обнимает меня и целует. Ее губы, обычно мягкие и податливые, становятся жесткими, как рукавицы палача. Она покусывает меня своими белыми крепкими зубами. От ее укусов остаются следы. Кровавые окружности на моих щеках. Ее зубы входят в мою плоть. Разве Мандинго каннибалы? Но Мики ест меня, выпивает меня. Она любит меня. Или ненавидит вместе с этой страной?
— Ты когда-нибудь видел, как леопард убивает детенышей из чужого выводка? Он находит чужое логово и, если рядом нет матери, съедает всех. Здесь живут такие же леопарды, Энди. Они ходят на двух ногах и даже носят иногда костюмы. Но они рычат от удовольствия, когда находят чужое беззащитное логово. Они грызут беззащитных. Ты хочешь, чтобы я осталась в этой стране?
Я срывал с нее одежду. Она рвала то, что было одето на мне. Швы трещали. Пот капал. Мы сливались с ней в одно целое.
— Но даже если я не вырвусь из этого зверинца, я буду защищать свой выводок. Я не буду отходить от логова дальше, чем на дистанцию одного прыжка. И если кто-нибудь посмеет оскалить свою пасть на мое логово, я порву его. Я брошусь незаметно и быстро. Я увижу его глаза и шею. Они хотят, чтобы я тоже была зверем. И я буду им. Вот так.
Ее зубы впились в мою шею. Меня парализовала боль. Обдала меня, словно кипятком. Я увидел, как мне на грудь сбегает струйка крови. Моей собственной. И в этот момент вместе с болью пришло наслаждение. Оно освободило мою сущность из тесного плена. Я ворвался в Мики всем своим слабым и вязким человеческим естеством. И она радостно и яростно приняла его, слизывая красную соленую влагу с моей шеи и тут же целуя меня в губы. И вот тогда я очнулся.
*****Очнулся в стальной самоходной коробке «фольксваген», которую со всех сторон жарило тропическое солнце на проселочной дороге. Дорога вела вглубь сельвы. В самую середину африканской неизвестности. Было жарко и душно.
— Иваныч, дай твою сигаретку, — услышал я голос с другой планеты. Это Сергей Журавлев пробился через пелену, затянувшую мое сознание. «Ты стал много курить, дружище, это вредно для здоровья,» — я хотел было пошутить вслух. Но так и не пошутил. Я знал, что со мной происходит, знал, что умный мой организм отключает разум для того, чтобы я не чувствовал физических страданий. Чем больше боли, тем тупее я становлюсь. Чем я тупее, тем меньше чувствую страдания. Парадокс получается. Чем больше я страдаю, тем меньше я страдаю. Но этот голос Журавлева, услышанный в полудреме, он напоминал о том, что внешний мир существует. И вместе с этим напоминанием в меня проникало страдание.
Голова гудела, как старинный колокол во время литургии.
— Иваныч, дай сигаретку, — колотилось в колоколе вежливое и настойчивое напоминание.
— Хорошо, — собрался я резко ответить Журавлеву. Но с резкостью у меня не сложилось. «Шшо,» — прошипели мои обезвоженные легкие. Рука потянулась в карман за полупустой пачкой «Листьев Монтеррея». И в этот момент наш фольксваген резко и неожиданно остановился. Я услышал хлопок водительской двери, а чуть погодя и второй, с пассажирской стороны. Наши спутники вышли из автомобиля. Они стали перед капотом и принялись обсуждать на Гио что-то очень для них важное. Человек, сидевший за рулем, явно был озабочен. Джонсон ответил с легким смешком, но тут же принял серьезный тон. Он заговорил жестко и твердо. Его слова звучали почти, как приказ. Без всяких возражений.
Задняя дверь «фольксвагена» открылась. Затем заскрипели створки встроенного в микроавтобус ящика для перевозки лиц, провинившихся перед законом этой страны. Водитель с неприязненной гримасой, не глядя, бросил внутрь пластиковую бутылку с водой. Жидкость своим мутным видом намекала на гепатит А и брюшной тиф, и, как минимум, гарантировала расстройство желудка. Но нам было не до намеков. Всего лишь час с небольшим пребывания внутри сварной коробки менял всю философию отношения к себе и окружающей действительности. Самосознание Журавлева переживало примерно те же метаморфозы. Бутылка гулко ударилась о пол и, как мяч в американском футболе, подскочила вверх по непредсказуемой траектории. Сергей с невиданной ловкостью поймал ее на лету, суетливо свернул ей пластмассовую шею и отправил в себя половину ее мутного содержимого. И только потом протянул мне.
Каким неожиданным иногда бывает счастье. Оно может измеряться миллионами, которые открывают перед человеком неограниченные, на первый взгляд, возможности. Но вскоре ты начинаешь понимать, что и у них есть своя граница. Ты хочешь ее перейти, но для этого тебе нужны уже не миллионы, а суммы, исчисляемые девятью знаками. И когда они у тебя есть, ты снова становишься счастливым. Но вдруг все вокруг меняется. Эта форма счастья исчезает, а вместо нее приходит пустота. Гулкая, как камера смертника. Весь мир, построенный твоим изворотливым умом рушится у тебя на глазах. Может быть, он и продолжает существовать. Но не в твоей реальности. Твоя реальность напоминает о себе сухим жжением в слипшемся горле и горячими стальными стенами коробки, в которую тебя загнали, как беспомощную дичь. И вот тогда тебя счастливым делает что-нибудь совершенно незначительное. Глоток грязной воды, например.
— А все-таки тебя за что сюда? — ухмыльнувшись, спросил меня Сергей.
— Ну, не знаю, что тебе сказать, — протянул я в ответ. Я понимал, что Журавлев, к его чести, пытался сложить воедино мозаику обстоятельств нашего ареста, и у него, разумеется, ничего не получалось. — Ты разве не был со мной на скамье подсудимых?
— Ну, как же? Был. Слышал все. Слова знакомые, а смысл непонятен. Угадал все буквы, но не угадал слово. Я, Иваныч, понял, за что посадили меня, но не понял, за что тебя.
Он был разменной монетой. Сергея зацепили мимоходом, для того, чтобы уничтожить меня. Но сам он о трюке Тайлера-младшего не догадается, а я ему в этом не помощник. К открытым створкам задних дверей подошел Суа. Он мрачно посмотрел на нас. Черный громила был явно чем-то недоволен.
Я попытался отвлечь внимание Журавлева от мыслей о степени моей виновности и спросил Суа.
— Скажите, Джонсон, а это не вы были там в «Бунгало»?
— Когда именно? — переспросил суровый офицер спецназа.
— Ну, тогда, когда вы сбили самолет.