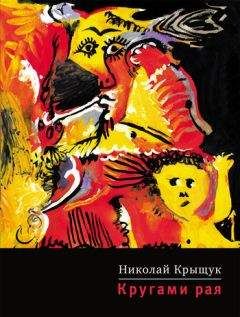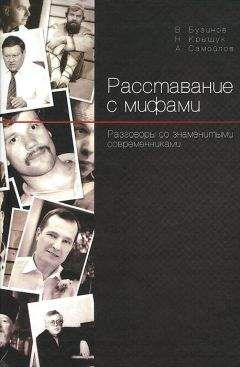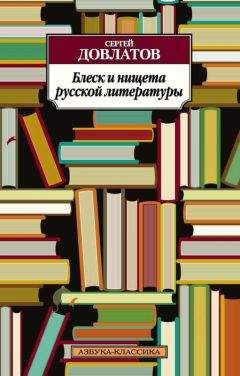Николай Крыщук - В Петербурге летом жить можно…
И если в начале этого печального полета она услышит донесшееся вслед: «Я буду любить тебя всегда!» – то разве могу я после этого сетовать на жизнь, которая причинила мне столько обид?
Потом был вечер
У меня много друзей и практически нет недругов. Не потому, что их нет, но они где-то скрываются. И не потому скрываются, что у меня особо острый ум, сильный кулак или большие связи. Просто им неловко, что у меня недругов нет, а они есть.
Как-то меня практически все любят. Отдают должное, потом еще сверху кладут, забывая, точно взятку. Резко переходят на «ты» на волне невероятной близости. По имени, само собой. А уменьшительно-ласкательное – от наворота не умеющей сдержать себя нежности.
Может быть, я неправильно живу?
Некоторые любили до самой своей смерти. Но до смерти, кажется, никто. Или умело скрывали. Или я недоверчивый такой.
Один медленно затевающийся роман закончился ее скороспелым романом с другим. Я-то говорю: не расстраивайся, это ведь не горе. Это приключение называется «и так бывает»… Смотрит на меня с жалостью к себе, раздражается на жизнь, не умея справиться с подвернувшейся радостью.
Не выработал в себе достоинства олимпийского или, на худой момент, швейцарного, прост, как правда, смущен и измучен, как фитиль.
Подождите, но разве я не достойная князевой коллекции жемчужина?
Однако получается то, что получается. Кремня бы немножко в кровь.
Люблю ползать по рисунку выгоревших обоев. Там меня понимают, помнят, оттуда я все равно что не уходил. Меня там принимают за того, кем представлюсь. За, например, зайчика.
Никогда не отрекусь от того, чему никогда не давал обета верности. Просто есть внутренние правила и неомраченные привязанности. Больше всего мне сейчас жаль расчески, которую вчера потерял.
Алфавит очень важен. Он выравнивает всех в правах на любовь и дружбу. Подобие справедливости, уложенной в записную книжку. Впрочем, можно и перелистнуть.
Я всегда тянулся к морщинке в пространстве, которая притаилась в пейзаже. Значит ли это, что я – трус и нелюдим? Или мне хотелось последней, безоговорочной (безразговорочной) тихости, которая почти подвиг и схима?
Поговорите со мной, поговорите… Я такое расскажу!
Потом был вечер, и было утро, а у нас с ней все равно ничего не вышло. Подвело то, что разное, оказывается, получили воспитание. Вот Создатель бы удивился, что мы мелочные такие!
Но это все равно ерунда! Главное, надо приготовиться правильно умереть. Чтобы не пропустить, например, в пьяном угаре свой последний миг. Чтобы не застыть телом на последней иллюзии. И чтобы успеть сказать последние слова – это очень важно.
Все-таки сюжетная проза остается единственно достойным и мало кем оспариваемым жанром. Сюжет нужен все-таки, господа. Корешок книжный на прощанье погладить. Луне в слепой глаз посмотреть. Пройти на прощанье невредимым сквозь стекло. Предсмертный вздох может быть ритмически невычисляемым, но обязан при этом совпасть с последней мыслью. Это вы имейте в виду. Иначе никакого эпилога не получится.
Остались еще кой-какие дела, о которых надо поговорить, пока есть время. Например, существуют правила поведения за столом – их надо соблюдать. А то некоторые думают, что не надо.
Неплохо на старости лет заняться живописью – вещь необязательная, но престижная. К тому же помогает обрести не нужное уже для жизни второе дыхание. А цвета в старости открываются невероятные.
Хорошо еще разойтись, разгуляться, прокатиться с утерянной удачей молодости – желательно немного распутно, легкомысленно и вполне случайно.
Сейчас я вам объясню, как это произойдет: солнце будет выставлено в голубом небе (натурально, не графомански голубом), багульник начнет цвести, не знаю почему, второй раз за осень, музыка звучать из придорожных канав, а губы спутницы будут опять пахнуть молоком и забыто улыбаться.
Вот еще, да, музыка будет звучать из полузасохших канав. И в них же – мелькать чьи-то глаза, глаза, глаза…
Вот вам и жизнь, вот и все. А что вы хотите, если времени было отпущено столько-то и столько?..
Впрочем, давайте хотя бы здесь не будем грешить. Неужели мало? Бывало, что некоторые и в более короткий срок укладывались. Существование же наше – не вечернее чаепитие. Да и оно, обыкновенно, кончается.
Короток твой дар, милая…
Эпилог
…Спи, детка. Детей я уже уложил. Сегодня про кошек. Я помню.
Пьяный кабальеро бормочет себе под нос бессвязные нежности. В осеннем небе кованые листья. Они на глазах остывают, тяжелеют и становятся бурыми. И рядом нет ни милой, ни детей – одни только кошки, пропадая в сумерках, вершат свой тигриный цирк.
Цирк, да и только. Да, и только одни кошки – самостоятельные, высокомерные и всегда доступные ласке – уносят в мерцающих глазах тайну вечной независимости.
Наверное, я без корней. Без тормозов, само собой, без руля и ветрил. Так, скорее всего, и будет носить меня, если не по белу свету, то по темным переулкам, да сырым садам, да по чужим кухням и мансардам, где хозяин, оставив сиротеть незаконченные полотна и пустые бутылки, спит в углу на коврике, освободив продавленный диван не дошедшему еще до гостей гостю.
Жена хозяина, как всегда, на даче. Сторожит овощи. Она – ничего. Главное, совершенно не обременяет любовью. А сам хозяин – большой малоизвестный художник. Страшно грязный. Кроме дружбы нас роднит безденежье.
…Спи, милая. Дети уже уложены. Про кошек, так про кошек.
Друг мой, я не могу не сказать тебе, что жизнь прошла и уже нет сил тянуться к свету и знаниям. Отношения с жизнью у меня никогда не были фамильярными. Я всегда уважал ее тихую обтекающую мощь, которая не дает посторониться. Когда-нибудь я обязательно добреду до твоей Аркадии, мы посидим ночь и уже к утру, надеюсь, получим промежуточные варианты ответов. Пора, пора, наконец, встретиться и поколупать вместе штукатурку всех и всяческих смыслов.
Что ты, пьяный кабальеро?..
Доска под ногой погружается в воду. Он оказывается в парке, который давно растет сам по себе. Насквозь просматриваемый амбар поскрипывает воротами. Крупная птица, вылетев на старика, ударяется в грудь и вздыхает.
Коридор густой бузины. В конце его калитка. Дома не видно.
Вдруг белые цветы вспыхивают в сумерках, но в отличие от салюта не падают и не исчезают. Он сначала мысленно торопит их, потом смиряется и снова что-то бормочет себе под нос. Чуть ли не с детства он собирается спросить у кого-нибудь, как называются белые цветы, но так, вероятно, уже никогда не узнает, что это жасмин.
Заброшенный парк – пейзаж жизни, стынущей в бесполезных воспоминаниях и расчетливых недомолвках. Амбар, продевающий сквозь себя небо, доисторические челюсти экскаваторов, дом, в который он никогда не войдет, цветы, названия которых он не знает.
Из-за калитки доносятся голоса – женский и мужской.
– Табак раскрылся, – говорит мужчина. – А это что? Эти тоже к вечеру раскрываются?
– Что ты! Они давно распустились. Ты просто не замечал.
– Как называются?
– Царские сапожки.
– Забавно. А похожи на фригийские колпачки.
– Колпачки?
– Фригийцы – это древний народ. Они еще до нашей эры жили. Фригийские колпачки – это не цветы.
Пьяный старик идет прочь неровными стежками. О его лысый череп разбивается новорожденная луна. Ворохи разбуженных мотыльков специально для него прорисовывают в воздухе смертельные фигуры.
Вот что я тебе еще скажу, друг мой, – природе нужен зритель. Сама она не может осознать собственную красоту. Она нуждается в зрителе, да. Ибо все, что ею сотворено, сотворено исключительно из мотива целесообразности. А получилось красиво. В потребности осознать это природа и придумала человека. То есть зрителя. То есть для собственного, так сказать, удовольствия, самолюбования и потехи.
Таким именно примитивным образом мы оказались в плену роковых сил. И пошло-поехало. Слово за слово, засветло-затемно, туда-сюда.
Ведь и любовь, в сущности, чистая химия. Нет, все-таки раздобуду денег, разыщу твой адресок, да и нагряну с визитом. Пора уже поговорить, действительно. Потому что самая даже большая любовь, скажу тебе, начинается с крошечной железы, расположенной в задней части головы. Ну, это я так, для интриги. Остальное при встрече.
…Спи, спи, хорошая моя. Дети давно спят. Так про что сегодня?
Часть первая
суббота
четвертое
…Теперь о наших хромых и нищих. Миллионы людей живут на помойках и воруют электричество в подвалы. Спрашивается, зачем навязывать счастье людям, которые его уже имеют? Это не преступление, государь. Это хуже. Это ошибка.
Стремление к масштабному обустройству уединенной жизни неистребимо в нашем отечестве. Пена падает с губ Ангела. Но если посадить в мясную лавку кавалериста, который одним взмахом разрубает всадника и коня, много ли охотников найдется ходить к нему за мясом?