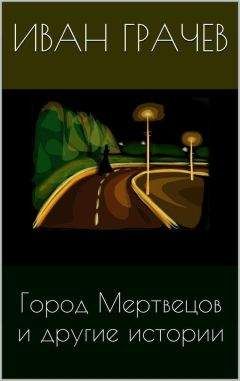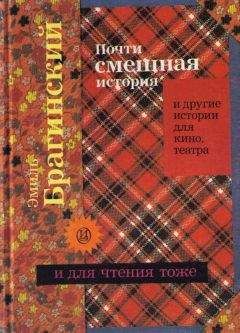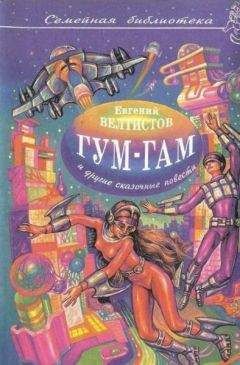Нефть, метель и другие веселые боги (сборник) - Шипнигов Иван
Через пять дней Гурьеву исполнялось двадцать восемь, и это было для него примеркой тридцатилетия, которого он боялся и не хотел, не соглашаясь с тем, что этот возраст страшен только для женщин. Гурьев ничего не добился и ничем не владел. С рождения он был словно расколот на две части; одна из них, чистая, легкая и доверчивая, хотела и могла получить славу, деньги и любовь; вторая, тяжелая и мрачная, подталкивала Гурьева к отказу от всего, чего он больше всего хотел. Гурьев обожал быть на виду, чувствовать внимание и интерес к себе, и это ему легко давалось в силу природного обаяния и остроумия; но когда это случалось, он отворачивался и уходил, отталкивая даже тех, кто шел за ним, хотя Гурьев прекрасно понимал, что эта подростковая манерность есть лишь уродливая форма, в которой он просил внимания, еще больше внимания. Гурьев любил вкусно поесть, любил красивые вещи, любил порядок и уют, очень любил деньги; любил и умел готовить, находить красивые вещи, наводить порядок и создавать уют, работать целые сутки, чувствуя не усталость, а удовольствие, – и при этом он ел мусор, спал на продавленном диване, жил от зарплаты до зарплаты, зарабатывая, как все его московские сверстники, но тратя деньги неизвестно куда, и безвольно и бесплодно просиживал драгоценные ночи перед компьютером. Больше всего на свете Гурьев любил женщин – и был давно одинок, стал привыкать к этому и боялся этого привыкания. Наконец, Гурьев остро и тонко чувствовал красоту и гармонию мира, знал, что у мира есть Творец, и творение его, частью которого был Гурьев, бессмертно, но сам постоянно жил в страхе, неверии и тоске.
В своей поэтической наивности Гурьев был рад думать, что легкая его часть и есть он сам, настоящий, а мрачная – лишь паразитический нарост, налипший в детстве, и теперь он счищает его и скоро совсем счистит с себя. В своей честности, переходящей в цинизм, Гурьев понимал, что без мрачной стороны не станет его самого. Вся его немалая энергия уходила на примирение двух половин в себе, и его пугало, что к тридцатилетию он придет со все тем же, что есть у него сейчас как результат невидимой и напряженной работы, а для других является данностью – цельное, честное, чистоплотное внутреннее устройство. А ужасно хотелось хоть каких-то благ, удобств и гарантий, потому что нищего художника любят до тех пор, пока он сам не признается себе в том, что он нищий художник. Гурьев решился признаться самому себе, что он художник, лишь три месяца назад, в марте, и это признание совпало тогда с расцветом его нищеты, с присоединением полуострова, и Гурьев очень радовался остроумию этого совпадения.
Сейчас же в этой трясущейся от страха серенькой «тушке» жизнь Гурьева наконец-то набирала новую высоту, и в первый раз море ему давали ненадолго, зато даром, отчего свидание с ним становилось бесценным, то есть не имеющим цены. Вылет был ранним утром, и почти все вокруг спали, а те, кто не спал, обсуждали, удастся ли искупаться.
– Вы взяли трусы? – спрашивал у всех разговорчивый веселый блондин фотограф. – Я первым делом, когда собирался, взял трусы.
– Мы там целый день со звездами будем, какие трусы, – сквозь турбулентную зевоту отвечала ему меланхоличная черноглазая девушка-корреспондент.
Другие поддерживали ее, всячески стараясь показать, что море, которое их ожидало, было как бы ненастоящее; они летели туда только из-за работы, словно бы брезговали его провинциальным масштабом, – а люди попроще уже собирались ехать туда отдыхать. Гурьеву это было смешно; он не стеснялся смотреть на вещи просто и прямо и свою непосредственную радость от будущей встречи с морем ни за что не променял бы на доморощенный отпускной снобизм, который, по его убеждению, был провинциальностью гораздо более глухой, чем наивные восторги выросшего в деревне Гурьева. Его иногда посещали мечты вполне террористического толка о том, как здорово было бы срыть Красную площадь и налить в центре города маленькое домашнее море, тогда Москва стала бы лучшим городом на земле. Однако по нынешним временам за такие мысли можно было бы поплатиться, поэтому Гурьев только твердо решил к тридцати годам устроиться так же, как большинство обеспеченных москвичей, проводящих зиму в теплых странах у моря. Ноутбук у него уже был, осталось накопить на домик, и эта добродушная простенькая насмешка над собой тоже веселила Гурьева, так как поэтическая наивность легко уживалась в нем со здоровым житейским цинизмом, и он знал, что ему так не устроиться и устраиваться не нужно.
К концу второго часа полета Гурьев оглох, но заснуть не смог. Впереди сидела маленькая блондинка, видимо студентка журфака, проходящая практику в каком-нибудь звездном журнале. Ей было, наверное, около двадцати, но выглядела она совсем как подросток. Гурьев смотрел на ее слабую тонкую шею, привычно, как обо всех маленьких женщинах, которые нравились ему, думал, что в ней есть что-то жалкое, и тут же смеялся над собой, напоминая себе, что в нем, склонном к лирической полноте, бородатом и притом таком наивном и живущем неустроенно, жалкого гораздо больше, чем в любой маленькой блондинке. На нее было удобно смотреть; Гурьев экономил силы и не мог сосредоточиться на чем-то конкретном, а так расслабленный взгляд сам останавливался на слабой тонкой шее, как бы спрыгивал без парашюта в воздушную яму, образовавшуюся вокруг блондинки.
Тогда, четырнадцать лет назад, море было большое. Женщина, которую Гурьев встретил там, была похожа на эту студентку. В четырнадцать лет он был в другом крупном детском центре на другом конце страны, в бухте Емар неподалеку от Владивостока, в лагере с наивным названием «Океан». Там в него влюбилась учительница русского языка и литературы, миниатюрная блондинка, ведшая литературный кружок, женщина вдвое старше его, но выглядящая, как все женщины, которые ему нравились, гораздо младше своих настоящих паспортных лет. И теперь Гурьев в свои двадцать восемь пробовал представить четырнадцатилетнюю девушку и брезгливо отворачивался от этой мысли, совсем не пони мая, как мог тогда возникнуть этот возвышенный поэтичный сюжет, когда сегодня из этого вышла бы скучная таблоидная клубничка. Тогда была красота: дискотека, не менее долгожданная, чем море. Мигание стробоскопов через секунду освещало фантастически застывшую толпу, делая ее похожей на свалку прекрасных мраморных статуй, и это было страшно и возбуждающе, особенно учитывая влияние луны, накладывавшей второй слой чуда: ровесницы казались уже не просто статуями, а ослепительно белыми надгробиями на залитом соленым лунным светом кладбище, и хотелось целовать эти холодные шеи, плечи, ключицы. Девушки в двойном слое светового макияжа, электрического и лунного, были особенно белы и прозрачны, и долго потом нельзя было уснуть, представляя их потустороннюю, вырубленную стробоскопом из мрака льдистую красоту. Сейчас же все это исчезло, и тонкая красота маленькой студентки вызывала чувство только отечески-покровительственное. Гурьев подсел к студентке, познакомился и немного поговорил. Он, экономя силы, не стал ничего придумывать и спросил, взяла ли она трусы, чтобы купаться, и его тут же развеселил очевидный идиотизм такого знакомства. Девушку звали Аней, ей было двадцать с чем-то лет, она недавно работала корреспондентом и от всего робела, так, что даже не поняла оскорбительной простоты, с которой вел себя ее бородатый и представительный с виду собеседник, и только отвечала, что нет, купальник она не взяла, потому что не надеется искупаться.
Гурьев вернулся на свое место и пристегнулся. Прилетали; самолет задрожал; гул двигателей стал ниже и гуще; внизу вдалеке блеснуло серебристое море; колеса запрыгали по бетонным плитам посадочной полосы. Журналисты и звезды выходили из самолета помятые, но все же освеженные коротким сном, Гурьев же не спал и теперь напряженно зевал, надеясь, что отложит уши, но ветер снаружи оказался так силен, что не было слышно даже авиационного воя. Щелкали на ветру тугие синие флаги, морской воздух после высушенной прохлады салона был влажен и мягок настолько, что его можно было нащупать рукой; серенькие тучки легко бежали по масляно-пастельному небу, бетонный залив взлетной полосы скоро кончался, сменяясь травяным взъерошенным морем до горизонта, и запах цветов был таким оглушительным, что его не могли перебить ни сильнейший ветер, ни йодистая морская испарина.