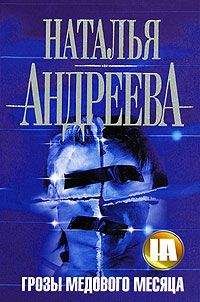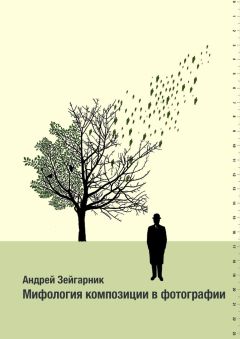Алексей Макушинский - Макс
— Разобрать и разрушить… разобрать и разрушить…
— А ведь мы… да, мы пытаемся что-то, все время, собрать… что-то как-то наладить… Мы ничего не можем наладить… ничего не можем собрать… И все усилия бесполезны… все старанья бессмысленны…
— Но и отказаться от них… отказаться от них невозможно… Отказаться от них… тогда: что же?.. Опять путаница, случайные мысли…
И он опять и снова сталкивался, значит, все с тем же, неразрешавшимся… неразрешимым, может быть, противоречием.
— Нет… все не так, все не так. И я отказываюсь… во всяком случае… от превосходного будущего… искомого состояния… Я не хочу ясности… мне не нужно… никакой больше собранности. Нет, я хочу их… вот в чем все дело… я хочу их по-прежнему… Я хочу мыслить, я не хочу заставлять себя мыслить… Все равно… все неправильно… И есть только то, что есть… вот сейчас… и… что же?.. и остается только принять все это… да, принять и взять на себя эту тяжесть жизни… этот труд настоящего… развал настоящего… беду и отчаяние… И нужна, конечно, готовность… прежде всего. И готовность к жизни есть готовность к боли… конечно. И может быть где-то там… по ту сторону всего этого… какой-то выход… когда-нибудь…
Но и это было лишь то же самое… то же самое, может быть, противоречие. И как бы то ни было, все ясней и яснее он видел его; и этими зимними, долгими, тянувшимися, бессонными, пролетавшими… на мои собственные, так думаю я теперь, отчасти бессонные ночи, отчасти, пожалуй, похожими, совсем непохожими, конечно, ночами, все снова и снова, как будто с разных сторон к нему приближаясь, продумывал и словно пытался додумать его до конца, продумать его насквозь… и вновь и вновь упираясь в неразрешимое, отступая, отчаиваясь, начиная сначала, мысль его, обостренная болью, открывала вдруг, в окружавшей его темноте, еще и еще, быть может, какие-то, иногда совсем смутные связи, внезапные, вдруг совершенно очевидные для него соответствия… я же, теперь и здесь, отсюда и со своей стороны (я очень часто, как сказано, виделся с Максом в ту зиму: почти всегда у него, Макса, в его, бедой и отчаянием, табачным дымом и бессонницей как будто пропитавшейся комнате… но лишь совсем редко, как сказано, он начинал вдруг со мной говорить: и говорил в таких случаях очень быстро, все быстрей и быстрее, расхаживая по комнате, непонятно к кому обращаясь…) — я вспоминаю теперь, здесь, один — теперь и здесь, на этих страницах, вполне запретный, разумеется, разговор, когда он, Макс (расхаживая по комнате и непонятно к кому обращаясь…), сказал мне, среди прочего, что… вот, неописуемое… вокруг нас… вся эта… как ты выражаешься… неописуемая и невозможная жизнь… принудительно-обязательная… разве не лежит в основе ее… (да… так он, я помню, сказал…) разве в самой основе ее не лежит все то же… все то же стремленье к какому-то… превосходному, замечательному, великолепному будущему?.. Разве нет?.. Да, конечно… Но и в нас то же самое… и в нас то же самое… Вот послушай, кстати… да, вот…
И сев к столу, прочитал мне, как некогда, некий, весьма решительный и очень резкий отрывок из некоего… мир названий разбился… вполне, опять-таки, умозрительного сочинения, на сей раз мне незнакомого. И мы еще довольно долго говорили, я помню, об этой… и в самом деле, так думаю я теперь… нарушая запрет… основанной на стремленье к какому-то… замечательно-превосходному, великолепно-невозможному будущему… и в стремлении к этому будущему… так, я помню, сказал я Максу в тот вечер… саму себя как будто отрицающей жизни… не-жизни, если угодно… к которой все мы были, еще раз, причастны, в которой все мы… нет, не соглашаясь с нею… участвовали.
— Порвать со всем этим, — сказал он, я помню, — преодолеть все это… в себе же самом.
И вдруг замолчал, я помню, закурил сигарету… и после долгой, долгой, очень долго тянувшейся паузы, посмотрев на меня:
— Ах, ведь это все так… в общем… понятно… так просто. Ну и что ж с того? — сказал он. — Понять не значит справиться… Понять еще ничего не значит. Вообще ничего…
И всякий раз почти с облегчением… но и с чувством бессилия, почти унизительным… выходил я, как уже говорилось, на улицу, садился в троллейбус, переезжал через мост… он оставался, конечно; там; один; в своей комнате.
Он уже сам не знал, может быть, он ли выбрал отчаяние, оно ли само его — выбрало.
Он уже не мог бы от него убежать, даже если бы захотел.
Он не хотел убегать; упорствовал; не сдавался.
Он мог, конечно, теперь уже мог, конечно, уехать: сюда, скажем, к этому морю; он понимал, что это ничего не изменит; и думать о каких-то простейших вещах, о билете на поезд, или о том, чтобы созвониться с хозяевами той комнаты, которую он снимал вместе с Фридрихом, не мог; не хотел.
И еще что-то удерживало его: и как если бы (так думал он, может быть, подходя к окну, отдергивая, на мгновение, шторы…) — как если бы, бросив вызов, он должен был выдержать, выстоять… прямо напротив… пускай в беде, пусть в отчаянии.
Каждый день и по нескольку раз на дню казалось ему, что нет, он не выдержит.
И все же (так думаю я теперь…) — и все же были, конечно, какие-то, вдруг, просветы: в темноте, его окружавшей; и некие мысли, повороты мысли приносили иногда облегчение; некие книги вдруг отвлекали и в то же время с чем-то примиряли его; некая музыка утешала; и были, были, конечно же, эти краткие, всякий раз неожиданные мгновения, когда все успокаивалось, и в нем и вокруг, и все казалось возможным, и в затаившейся неподвижности замирало, все вещи в комнате, например, диван и кресла, пепельница на столе, спичечный коробок рядом с нею.
— Но жизнь не построишь на этих мгновениях…
— А впрочем, надо ли строить ее? вот вопрос…
И — и все опять, конечно же, начиналось сначала; все кружилось, все путалось; и не находя выхода, обостренная болью, мысль его вновь и вновь упиралась — в неразрешимое.
— Нет, жизнь не построишь на этих мгновениях… Ее вообще невозможно построить… устроить… В ней нельзя и не надо… устраиваться…
— Но тогда… что же?..
— Ничего… ничего…
И пытаясь то ли что-то собрать… все-таки что-то собрать, то ли что-то разрушить… еще что-то разрушить, — не выдерживая настоящего, отказываясь от будущего, — но и в тайной надежде, конечно же, если не найти там, в прошлом, какие-то, забытые им возможности, источники жизни, то по крайней мере, хотя бы отчасти, разрешить, так думал он, неразрешимое, распутать запутанное и продумать свои предпосылки, — Макс, по-прежнему и как некогда, — шагая ли вдоль реки, стоя ли у окна, но чаще всего и с обостренной ясностью по ночам, — Макс, как некогда и по-прежнему, думал и вновь начал думать, конечно, о разных, самой природой своей, своей окраской, звучанием, значением и смыслом друг от друга отделенных, как сказано, временах: о прошлой, еще раз, о позапрошлой, к примеру, зиме, — и о нашей первой, робкой и предварительной поездке, попытке: вернуться, — и об осени: удивительно-ветреной, — и конечно, об августе: дождливом и темном, — и о том, разумеется, сказочном, призрачном, что мы тогда еще, в августе, помнили, а после как будто забыли, — о велосипедах, сломанных или нет, — о вечерних встречах возле кино… все дальше и дальше, как некогда, уходил он по этим дорогам, отчасти уже знакомым ему, отчасти, может быть, впервые перед ним открывавшимся; и зажигая, вновь гася свет, вновь и вновь видел тот поселок, конечно, где мы жили каждое лето, в последний раз в августе, те улицы, дачные, ту станцию, магазин возле станции… И в лесу, в глуши и чащобе, стоял, конечно, все тот же, грибной, терпкий запах; и были те же кусты орешника, с мягкими мокрыми листьями; и тот же изгиб исчезавшей среди деревьев тропинки…
— Подумай, — сказал он мне как-то (в одну из наших — очень частых, как сказано, — в одну из тех, очень редких, как сказано, встреч, когда он действительно со мной говорил, расхаживая по комнате, останавливаясь, вновь принимаясь ходить…). — Подумай, тогда, когда-то… до августа… я жил девять месяцев здесь и три месяца там, каждый год, в том поселке… И вот что странно, — так, я помню, сказал он, — теперь, вспоминая все это, я только тот поселок и вижу… и одно какое-то… и другое какое-то лето… и как мы ездили, на велосипедах, куда-то… и куда-то, в другой раз, на поезде… А здесь… здесь ничего как будто и не было… Странно? Нет, напротив, понятно. Здесь, — подходя, в очередной раз, к окну, отдергивая, на мгновение, шторы, — здесь никаких и не может быть… воспоминаний. Им здесь не за что… ухватиться. Они скользят по этим камням… скользят… и падают… и разбиваются, — сказал он, — на части.
Он собирал их: так думаю я теперь. Почти насильно заставлял он себя вспоминать эти девять месяцев здесь — вернее: там, с моей точки зрения — там, в том, огромном, невероятном, покинутом мною городе: в этом городе, еще и еще раз, где были ведь, все-таки, вопреки всему и несмотря ни на что, какие-то, еще возможные улицы, еще дозволенные, например, переулки, проходы, арки, дворы: тогда, когда-то — и в отличие от меня — ему, Максу, почти, быть может, неведомые.