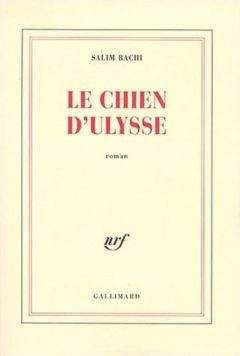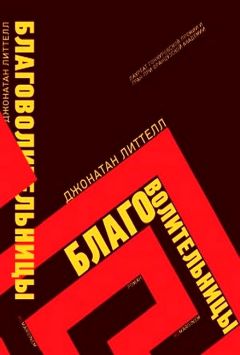Дэниел Мейсон - Настройщик
18
«Дорогая Кэтрин! Уже март, хотя я не уверен, какое сейчас число. Я пишу тебе из деревни Маэ Луин, с нашего форта, который расположен на берегу реки Салуин, в южных Шанских княжествах Бирмы. Я приехал сюда уже давно, и тем не менее это мое первое письмо отсюда. Я должен попросить у тебя прощения за то, что не написал тебе раньше. На самом деле, я, конечно, опасаюсь, что столь долгое молчание заставило тебя сильно переживать. Ты, должно быть, уже давно ждешь письма от меня, ведь я писал часто до того, как отправился на плато Шан. К несчастью, я также понимаю, что ты еще долго не прочтешь и этого письма, потому что здесь нет возможности отправить почту в Мандалай. Возможно, именно поэтому я не спешил писать, хотя, кажется, есть и другие причины, часть из них я осознаю, а другую, может быть, нет. Раньше я обычно рассказывал тебе о каких-то событиях, делился своими размышлениями. Сейчас я сам удивляюсь, отчего же не пишу с тех пор, как приехал сюда, ибо так много уже произошло. Помнится, много недель назад, по приезде сюда, я писал, что больше всего меня печалит чувство, будто все останется незавершенным. Странно, но с тех пор как я покинул Мандалай, я видел уже больше, чем мог себе представить, и больше понял то, что видел, но в то же самое время это ощущение незавершенности стало только еще более острым. Каждый день, пока я здесь, я ожидаю ответа на мои вопросы. Я жду его как бальзам на рану или воды, чтобы утолить жажду. Мне кажется, именно поэтому я и задерживался с письмом, и вот несколько ответов я все же нашел. Я пишу, потому что не писал уже слишком долго. Я знаю, что, когда увижу тебя, то, что я описываю, будет уже далеко в прошлом, впечатления улягутся. Поэтому, вероятно, я пишу еще и потому, что чувствую острую потребность занести слова на бумагу, даже если никто, кроме меня, этого и не прочтет.
Я сижу под ивой, на песчаном берегу Салуина. Это одно из моих любимейших мест здесь. Тут тихо и укромно, но все же я могу видеть реку и слышать людей, суетящихся вокруг меня. Сейчас вечер. Он только начинается. Солнце спускается к горизонту, на небе, постепенно становящимся лиловым, собираются облака — возможно, снова будут грозы. Прошло четыре дня с тех пор, как начались дожди. Мне запомнится этот день больше, чем день отъезда из Мандалая, ибо после него все переменилось на плато. Действительно, я никогда не видел ничего подобного, как этот дождь. Морось, которую мы называем дождем в Англии, не идет ни в какое сравнение с натиском муссона. Небеса разверзаются разом, и все мгновенно напитывается водой, все бегут под крышу, тропинки превращаются в грязевые потоки, целые реки, деревья качаются, и вода льется с листвы, как из кувшина, не остается абсолютно ничего сухого. О, Кэтрин, как же это странно: я могу исписать много страниц только о дожде, о том, как он падает, о каплях разного размера и о том, как ощущаешь их на лице, об их вкусе и запахе, их звуке. Правда, я могу исписать не одну страницу и об одном только звуке — какой издает капля, падая по тростниковым крышам, по листьям, по жести, по ивам.
Дорогая моя, здесь так красиво. Дожди в этом году пришли рано, и лес переменился невообразимо. За считанные дни сухой кустарник преобразился в фейерверк цветов. Когда я плыл на пароходе из Рангуна в Мандалай, я познакомился с молодыми военными, которые рассказывали мне истории о Маэ Луин, и в тот момент я не мог поверить, что они рассказывают правду, но теперь я знаю, что это так. Солнце здесь яркое и сильное. От реки дует прохладный ветерок. Воздух наполнен ароматом нектара, запахом специй из кухни и звуками, что это за волшебные звуки! Я сейчас сижу под ивой, и ветви свисают низко, так, что мне виден лишь небольшой кусочек реки. Но мне слышен чей-то смех. О, если бы я только мог передать детский смех в музыке, одной только вибрацией струн, или хотя бы перенести его на бумагу. Но здесь слова бессильны. Я размышляю о языке, которым мы описываем музыку, но насколько он неприспособлен к тому, чтобы описать звук, возможности которого бесконечны. Тем не менее мы способны зафиксировать их; в музыке наша ограниченность касается лишь слов, но мы всегда можем обратиться к тональности и высоте нот. И все же для множества других звуков мы так и не подобрали слов и не можем записать их в определенном ключе и знаках. Как же мне объяснить, что я имею в виду? Слева от меня трое мальчишек играют на мелководье в мяч, и он все время улетает на глубину, а молодая женщина, стирающая белье, — возможно, это их мать, а может быть, сестра — ругает их, когда они пускаются вплавь, чтобы достать его. И все равно они вновь упускают мячик и снова плывут за ним, и в этот момент раздается какой-то особый смех, подобного которому я никогда раньше не слыхал. Это звуки, недоступные фортепиано, их невозможно загнать в нотные такты.
Кэтрин, как я хотел бы, чтобы ты тоже могла это услышать, нет, я хотел бы запомнить это навсегда, хотел бы привезти эти звуки с собой в Англию. Когда я пишу об этом, я чувствую одновременно невероятную печаль и невероятную радость, во мне поднимается какое-то желание, что-то сродни экстазу. Я стараюсь тщательнее выбирать слова, когда пишу об этом. И это действительно то, что я чувствую, ибо это поднимается у меня в груди, как вода в колодце. Я наполняюсь этими чувствами, а глаза мои наполняются слезами, словно во мне уже нет места для переживаний. Я не знаю, что это, откуда это взялось и когда это началось. Я никогда не думал, что смогу найти так много смысла в падении воды или в звуках детской игры.
Сознаю, каким странным для тебя может показаться это письмо. А я описал лишь ничтожную часть того, что делал и видел. Вместо этого я болтаю, как дитя. Что-то изменилось — должно быть, ты уже поняла это по моему письму. Вчера вечером я играл на рояле перед публикой, и среди нее был особенный зритель. Отчасти мне хочется обозначить именно это событие как начало изменений во мне, хотя я знаю, что это не так — эта перемена происходила более медленно, может быть, все началось еще дома. В чем суть этой перемены, я не понимаю, так же, как я не понимаю, счастливее ли я стал, чем был раньше. Иногда я думаю о том, что я потерял счет времени, потому что мое возвращение должно быть связано не с какой-то конкретной датой, а с моментом, когда наконец я заполню пустоту. Конечно же, я вернусь домой, потому что ты остаешься моей самой большой любовью. Но лишь теперь я понял, почему ты хотела, чтобы я ехал сюда. Мне стали ясны твои слова, которые ты говорила мне перед отъездом. Во всем этом есть какой-то особый смысл — ты права, хотя я до сих пор не знаю, в чем он. Не знаю даже, смогу ли я найти его, но пока должен подождать, должен остаться здесь. Конечно, я вернусь, скоро, может быть, уже завтра. Сейчас я пишу тебе, потому что сознаю, что ты должна знать, почему я до сих пор здесь. Я надеюсь, ты поймешь, дорогая моя.
Кэтрин, уже становится темно и даже холодно. Здесь сейчас зима, как бы странно это ни звучало. Мне интересно, что бы подумали люди, если бы прочли это письмо. Потому что внешне я остаюсь таким же и не знаю, способен ли кто-то заметить перемену, произошедшую во мне. Может быть, именно поэтому я так скучаю по тебе, ты же всегда говорила, что слышишь меня, даже когда я молчу.
Я напишу еще, потому что о многом пока не сказано, даже если виной этому всего лишь нехватка места, чернил и света. Остаюсь твоим любящим мужем. Эдгар».
Было еще светло. Много оставалось несказанного — он знал это, но перо дрожало в его руке, когда он подносил его к странице.
У ивы остановилась Кхин Мио, выражение ее лица показалось ему каким-то неестественным.
— Мистер Дрейк, — сказала она. Он поднял глаза. — Доктор Кэррол послал меня найти вас. Пойдемте, пожалуйста. Побыстрее. Он сказал, это важно.
19
Эдгар сложил письмо и пошел за Кхин Мио, прочь от реки. Она ничего больше не сказала, просто оставила его у дверей приемной доктора и быстро пошла обратно по тропинке.
Доктор стоял у окна и смотрел на лагерь. Потом обернулся.
— Мистер Дрейк, садитесь, пожалуйста. — Он жестом показал на стул и присел сам с другой стороны широкого стола, который использовал в своих хирургических целях. — Простите, что побеспокоил вас, вы так мирно сидели у реки. Вам больше, чем кому-либо другому, требуется время для отдыха. Вы играли великолепно.
— Это была чисто техническая пьеса.
— Нет, это было гораздо больше, чем техническая пьеса.
— А как саубва? — спросил Эдгар. — Можно только надеяться, что он думает так же. — Князь уехал утром на роскошном троне, установленном на слоновьей спине, многоцветная свита его растворилась в зелени джунглей. Его сопровождали всадники на пони, хвосты которых были выкрашены в красный цвет.
— Он очарован. Он хотел еще послушать, как вы играете. Но я настоял на том, что для этого будет еще более подходящий момент.
— Вы добились того, чего хотели?