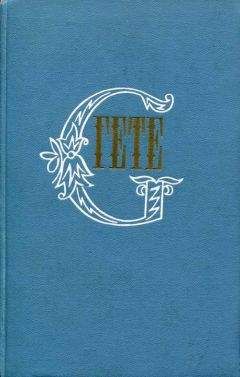Эрик Хансен - Титаник. Псалом в конце пути
— А дождь, мама? Каждый день идет дождь.
— Чепуха!
— Но это правда, фрау Мельхиор. Каждый день идет дождь.
— Неужели? Вы видите, Давид? Это все моя прострация. Да-да. Надеюсь, София, ты не слишком похожа на меня. Надеюсь, ты пошла в своего покойного отца… Или я вам не завидую, Давид. — Она вдруг посмотрела ему прямо в глаза. Он снова покраснел. — Так о чем это я…
— Мы говорили о живописи, мама. О мастерской. Я привела Давида, чтобы показать ему свои картины.
— Ах да, совершенно верно, — вспомнила фрау Мельхиор. — Совершенно верно. А я вас держу тут. София, дорогая, я понимала, что с тобой что-то происходит. Последние три месяца ты по вечерам почти не бывала дома. А ведь ты такая домоседка. Так что теперь, мне кажется, будет лучше, если ты станешь приводить Давида сюда, будем вместе пить чай. Между прочим, София очень талантлива. — Фрау Мельхиор вдруг обратилась к Давиду. — Бог знает, от кого у нее талант. Я-то весьма посредственная художница. Может, это у нее от отца? Мой покойный муж Адальберт владел рудниками. Вы только себе представьте! Звучит ужасно, не правда ли? Но душа у моего Адальберта была очень чувствительная. Чего не скажешь о его братьях. Так вот, когда мой муж… словом, когда он умер и оставил нам и дом, и эти рудники с их золотом, алмазами и этой, как ее…
— Железной рудой, мама.
— Тогда, разумеется, управлять рудниками стали два его брата, они все взяли на себя. Очень неприятные люди. Они здесь не показываются, кроме тех редких случаев, когда надо уладить дела с этим наказанием, с этими покаянными деньгами, или как там называется то, что мы платим, чтобы получить отпущение грехов…
— Это называется налоги, мама! Налог на капитал.
— А я называю это покаянными деньгами. Мы платим государству эти деньги, чтобы оно простило нам все наши дурные поступки.
— Не говори глупостей, мама. Налоги мы платим государству, чтобы государство могло распоряжаться этими деньгами для общего блага. Ты это прекрасно знаешь.
— Общее благо, и ты туда же! — фыркнула фрау Мельхиор. — Как будто я не видела, какие книги ты читаешь по ночам!
— По ночам?
— Да-да. Кропоткин. Маркс. И этот, как его… Балдриан…
— Бакунин, мама.
— Так что, пожалуйста, не говори мне о государстве и всеобщем благе, моя маленькая террористочка.
Давиду казалось, что он, как сахар, уже растворился в чае. Чайник был бездонный. Они сидели в гостиной фрау Мельхиор, большой комнате с высоким потолком, обставленной дорогой мебелью и увешанной бесценными картинами, — однако все в целом выглядело довольно беспорядочно. Две картины были сняты и небрежно поставлены лицом к стене. Римский бюст на секретере служил в качестве пресс-папье. В клетке у окна сидела весьма агрессивная канарейка: когда они пришли, канарейка с громким криком клюнула Давида в палец. Комната очаровывала, приводила в замешательство и была похожа на свою хозяйку, восседавшую перед Давидом в плетеном кресле. Белое платье, на плечах красная шаль. Фрау Мельхиор была высокая, с такой же, как у Софии, длинной и тонкой шеей. Но лицо у нее было отсутствующее, тогда как лицо Софии выражало решительность и серьезность. Мать и дочь были и похожи и непохожи. Давид знал фрау Мельхиор по слухам, она была известна благодаря своим картинам, но больше благодаря своему салону, который привлекал самых известных людей искусства. У него закружилась голова.
В окна сочился свет непогоды и тающего снега, падая на стопки книг, картины и мебель. И на Софию, которая была здесь дома. Понять это было трудно. Она сидела, по-детски поджав под себя нош в домашних туфлях; глядя на ее ноги, Давид блаженствовал.
— Давид, налить вам еще чаю?
— Спасибо, я…
— Мама! Мы сидим с тобой больше часа и выпили уже целую бочку чаю. Можно, я покажу Давиду мастерскую?
— Конечно, дружок. — Фрау Мельхиор с нескрываемой гордостью смотрела на дочь. — Давид?
— Большое спасибо, фрау Мельхиор. — Давид встал. — Надеюсь, вы нас извините?
— Конечно, Давид.
София уже шла к двери. На прощание фрау Мельхиор пожала Давиду руку, потом кивнула ему и улыбнулась.
— До свидания, фрау Мельхиор.
— До свидания, Давид, спасибо.
Пройдя по длинным темным лестницам и коридорам, они оказались в большой мансарде, служившей мастерской. София закрыла за ними дверь и с внезапно нахлынувшей нежностью обвила руками его шею.
— Она тебя очень напугала? — спросила София, уткнувшись ему в плечо.
— Напугала? — Такой Софию Давид еще не видел.
— Ее многие пугаются, — прошептала София. — Она непохожа на других. Я боялась, что она напугает тебя.
— Нет.
— Ведь ты вырос в доме, где все как у людей, а тут все такое необычное.
Он застенчиво погладил ее по голове.
— Конечно, у нас дома совсем не так.
— Но, кроме нее, у меня никого нет. И никогда не было. Она сказала правду: у нас бывают только актеры и художники. В детстве я считала, что так и должно быть, но потом поняла, почему мои дяди никогда не приходят к нам со своими семьями… Впрочем, меня это не огорчает, я тоже не очень люблю их…
— София…
— В прошлом году мама забыла про Рождество, — продолжала София. — Она стала такой после смерти отца.
— Я только не всегда понимал, что у нее было игрой, а что…
— Искренним? Все это была игра, все от начала и до конца. Мама взяла себе такую манеру. И мы обе это знаем. И вместе с тем это неподдельное. Она уже не может снять с себя эту маску. Так с тех пор и идет.
— Когда умер твой отец?
— Я была еще совсем маленькая…
— Да?..
— Он упал в шахту. Так нам сказали.
Давид больше не спрашивал, только продолжал гладить ее по голове.
— Кажется, тогда произошла какая-то скандальная история, но ее замяли. После этого мама и стала такой… немного не в себе. Но она живет и дышит только искусством. — София помолчала. — Помнишь, я в первый вечер сказала тебе, что обычно пью шоколад у Новака со своими кузинами? Это, так сказать, принудительное общение в воспитательных целях. Мои дядюшки считают, что атмосфера нашего дома для меня пагубна, и велят моим кузинам составлять мне хорошее общество, хотя они любят меня не больше, чем я их… Самое забавное, что мама с ними согласна. Все это тебе, наверное, кажется…
— Нет, София. — Давид улыбнулся в ее волосы. — Совсем нет.
— Между прочим, это одному из дядюшек пришла в голову мысль отправить меня в летний лагерь, он человек прогрессивный и ратует за здоровье… И еще, Давид…
— Что?
— Ты ей понравился. Особенно твои слова: но это правда, фрау Мельхиор, каждый день идет дождь. Если бы ты ей не понравился, она, наверное, выставила бы тебя вон. Время от времени такое случается.
— Мне она тоже понравилась.
— Теперь ты можешь приходить к нам. Она не будет против. Можешь приходить сюда. И нам больше не придется все время слоняться по улицам.
О, эти прогулки по улицам! Иногда они заходят в кафе, но чаще гуляют по улицам и паркам, белым и тихим; днем — после уроков и по воскресеньям. Всю ту зиму они без конца гуляли, тесно прижавшись друг к другу, разговаривали, смеялись, молчали. Часто они опасались, что их увидят родственники или друзья. Прятались в подъездах и за деревьями. Из страха, что их кто-нибудь увидит, они не решались гулять в Пратере, но ездили в Венский лес. Давид поздно возвращается домой, и ему приходится по ночам готовить уроки, которые, как полагают его родители, он уже приготовил у Ханнеса. Но каждое утро он просыпается и бежит в школу, школьный день подобен мгновению. Потом София встречает его на углу липовой аллеи, где он прощается с Ханнесом. Ханнес кивает им обоим и уходит, он чувствует за них ответственность, ведь это он сам, в буквальном смысле слова, толкнул Давида к Софии. Он молчит, не выдает их.
Они много разговаривают. Читают друг другу стихи, говорят о книгах, о деревьях, о людях, которые идут мимо, придумывают их истории. София не такая, как все девочки. Давида переполняет чувство благодарности за то, что на их долю выпало это счастье, — пусть им приходится скрывать его от всех, но, как бы то ни было, они пользуются полной свободой, которой общественная мораль еще не позволяет молодым людям их возраста. Давид покупает ей серебряное колечко, продавец с улыбкой смотрит, как Давид, красный от смущения, быстро покидает магазин со своей покупкой. В этот день они были в музее, и их едва не выгнали оттуда за то, что они все время обнимались.
— Покажи мне свои картины, София.
Они ходят по мастерской мимо многочисленных ярких натюрмортов фрау Мельхиор. Давид принюхивается и понимает, чем всегда пахнут руки Софии, — это надежный, спокойный запах масляных красок и скипидара.
София занимает в мастерской один угол. На мольберте стоит картина, написанная в холодных тонах. София проворно прикрывает ее. И достает папку.