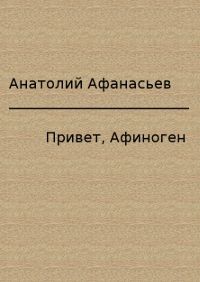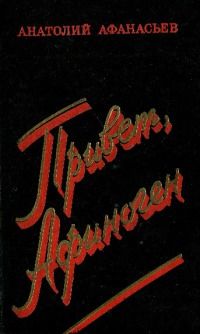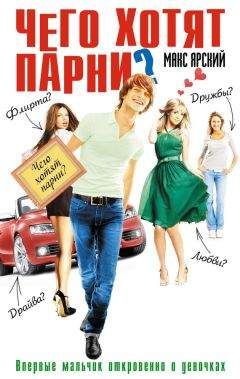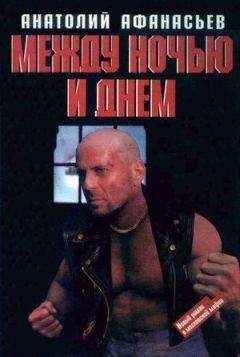Анатолий Афанасьев - Привет, Афиноген
– Ничего, – попытался улыбнуться невесте. – . Сейчас отпустит. Прости!
Отпустило. Проехало. Пронесло мимо.
– Ну, Натали, расшевелила ты старика. До печенок проняло. Знаешь, что я сейчас решил?
– Что, любимый?
– Ты будешь в нашей семье главная. А я буду во всем тебе подчиняться. И вся дрянь высвистит из меня, как воздух из спущенной шины. Эти шуточки, смешки – вся дрянь.
– Это я буду слушаться тебя во всем. Я слабая очень, Геночка. Очень слабовольная. С другими мне иногда кажется, что я и умная и тонкая, а с тобой нет. Мы оба скоро станем другими, совсем другими. Я предчувствую.
На улице их подстерегал неутомимый фотограф Васька Шалай.
– Не здесь! – сказал ему Афиноген.
Они отошли к скверику, пустынному, как и улицы Федулинска в этот час.
– Не ворошись, щелкай быстрей.
Больничная палата рисовалась Афиногену как рай, как спасение. Там ему преподнесет укольчик добрая Капитолина Васильевна. Очень боится уколов поганая боль. Он ляжет в прохладной палате и будет лежать сто часов, не вставая.
– Где же дождь, Гена? – возбужденно спохватилась Наташа. – Где туча? Ничего нет, пропала!
Небо отливало соком недозрелой смородины.
– Не будет грозы. Нет.
Васька Шалай попросил их обняться.
– Думай, что говоришь, – сказал Афиноген, – мы еще не расписаны.
Тихая, дорогая наступила минута. Они обнялись под деревом, онемели в объятье, и оба одинаково почувствовали приближение какого–то высшего волшебного звонка. Перед ними мельтешил с фотоаппаратом Васька Шалай, о чем–то их просил – они не понимали. Грохни сейчас неподалеку взрыв, развались на две части земной шар, они не сразу шелохнутся… Короткая редкая минута, и дорого она стоит в жизни…
Наташа поддерживала жениха под руку, он очень устал. Он думал, что прошло всего–навсего часа два, а кажется прожито несколько ярких пробуждений и столько же тягостных ночей. Все–таки он осуществил задуманное и теперь со спокойным сердцем под руку с любимой спешил на заслуженный отдых в больницу. Пока они шли, запоздалая туча еще разок высунула пасть из–за горизонта, тявкнула дальним громом, пустила издали бледную молнию и скрылась с позором. Наташа тихонько напевала.
– В понедельник, не позже, я выпишусь из больницы, – заверил ее Афиноген. – Переодену брюки и сразу к тебе. Представлюсь родителям, как положено. Посидим по–семейному, попьем чайку. Вот увидишь, я произведу на них хорошее впечатление. Постараюсь прикинуться воспитанным юношей.
– Мы еще сегодня увидимся. Я вечером к тебе приду. Что тебе принести почитать?
– Не надо, – сказал Афиноген, – не приходи в больницу. Я тебе лучше позвоню.
Он не хотел, чтобы Наташа видела его беспомощным в непотребном халате. Она кивнула, чтобы зря не спорить. Про себя подумала, что успеет к вечеру сварить курицу и купить на рынке фруктов. Она была в восхищении от этих новых навалившихся на нее забот. Теперь у нее есть муж, и он болен, – уж она знает сама, что делать, не вчера родилась.
У памятника гражданину, сдавшему нормы ГТО, они повстречали Петра Иннокентьевича Верховодова, совершавшего предобеденную прогулку – осмотр вверенной ему федулинской природы. Афиногена он признал, лишь столкнувшись с ним нос к носу.
– Это ты, Гена… А я думаю, кто это днем под ручку гуляет. Не работаешь–то почему?
Афиноген познакомил его с Наташей, поделился радостью. Верховодов поздравил их как–то рассеянно. Какая–то не до конца продуманная мысль занимала его.
– Хоть кол на голове теши! – сказал он загадочно. – Как прямо дикари какие!
– Про кого вы, Петр Иннокентьевич?
– Хулиганы эти ночные, беда с ними совсем. У клуба опять штакетник развалили, газон затоптали. В пруд новых бутылок накидали. Что с ними делать? Главная беда – не поймаешь. Не пойман – не вор. Мне ночью за ними на старых ногах как угнаться… Обращался я, Гена, в дружину за подмогой. В дружине ребята хорошие, дисциплинированные… Да ты их знаешь. Думаешь, помогли? Не тут–то было. Мне их главный – Рубен этот – так ответил: «Вы, Верховодов, нас на пустяки отвлекаете. Штакетник сторожить. Наша задача иная, чтобы, значит, кровь не пролилась». Так и сказал: кровь чтобы не пролилась. Я уж и то, грешным делом, заподозрил, не в исступлении ли он. Дело молодое, дали в руки власть, есть от чего в исступление прийти. «Чья же кровь, спрашиваю, предполагает пролиться?» – «А вы не знаете чья? Мирных сограждан». Ну что с него возьмешь. Ребята, конечно, в дружине хорошие, дисциплинированные. Порядок соблюдают, устав у них имеется. Но как с ними ближе разговоришься, – нет, не то. Хорошие ребята, но какие–то м‘а– лахольные. Навроде как детишки в войну играют. На– вроде они есть тайный федулинский гарнизон, оставленный для подпольной работы.
– У вас, Петр Иннокентьевич, сигаретки не найдется?
Афиноген опирался на Наташино плечо, и она старалась стоять крепко, твердо, чтобы ему было удобнее и легче на нее опираться. Верховодов достал смятую пачку «Явы» и спички. Он сам не курил уже лет десять, иногда разве перед сном баловался двумя–тремя затяжками, но сигареты с собой носил на случай доброжелательного разговора. Афиноген зажег спичку и впервые за этот день затянулся. Дым ворвался в легкие и произвел там массу диверсий и опустошений. Афиноген закашлялся, согнулся, схватился за бок обеими руками, застонал и со стоном опустился на ту же самую ступеньку, где сидел не так давно совершенно холостым человеком. Наташа, заохав, достала платочек и вытерла его посеревшее от натуги влажное лицо.
– Никак, ты хвораешь? – удивился Верховодов.
I– Болеет он, дядя Петр, болеет. Вы не беспокойте его… Ступайте!
Афиноген уже отдышался, смирил разгулявшуюся стихию.
– Ничего, порядок. Не курил давно – рванула, как динамитом. Не обращайте внимания, Петр Иннокентьевич. Так что, говорите, штакетник изуродовали?
, – Кабы один штакетник?.. Смородиновый куст обломали. Молоденькую вишенку с корнем из земли выдрали, Это же надо, какую охоту иметь, да и силу немалую. Которое растение в земле укоренилось – оно так просто злодею не поддается… Зачем все это, я думаю? Какая от этого хулигану польза, если он дерево изувечил и загубил? И отваги тут не надо особенной. Так – дикость, варварство и более ничего. Мы тоже молодыми бывали, и дрались, и петухами перед девчатами выхвалялись. Бывало, помню. Но все же разум сохраняли и до состояния диких зверей, а точнее, кабанов, которые носом под живые корни подкоп ведут, нет, не опускались… Ко мне тут давеча заходил человек один, поэт товарищ Волобдевский. Он желает про все эти безобразия и кабаньи выходки поэму сочинять. Считает, что его поэма внесет вклад в общую пропаганду защиты невинной природы. Я уж теперь и не верю. Навряд ли ночные тати и пещерные жители станут поэму читать. Навряд ли.
– Если Марк поэму шлепнет, ее вообще никто читать не будет, – уверил его Афиноген.
– Ты что же, знаешь его хорошо?
– Знаю. И Наташа знает. Наташа, будут читать поэму Марка Волобдевского?
– Нет, дядя Петр, никто не будет.
– Что же он, плохо напишет?
– Халтурщик он, Петр Иннокентьевич.
Верховодов огорчился, присел рядом на ступеньку. Так они рядышком и сидели в холо&ке: посередине
страдающий Афиноген, по бокам заботливая Наташа Гарова и огорченный Верховодов.
– Я и то засомневался. Больно уж он безудержно наливку глушит. Как–то даже торопливо и будто в забвении. Что же делать? Ума не приложу… Ни войны, ни разрухи нет. Отчего же и откуда они такие вылупляются, просто–таки звереныши некоторым образом? – На лице его отразилось беспомощное старческое смятение. – Призадумаешься и действительно согласишься с Карнауховым. Пороть надо публично на площади, он предлагает. Смех, конечно, но что делагь– то. Что делать?
– Карнаухов предлагает на площади пороть?
– Николай Егорович? Да! Достойный всяческого уважения человек. Но молодой еще, горячий. Пороть, говорит, на площади. А ведь это самосуд – порка. Я не могу самосуд поощрять.
– Никакой не самосуд, – возразил Афиноген. – Требование момента.
– Ты, выходит, поддерживаешь Карнаухова?
– Точнее сказать, я им восхищаюсь. Своей собственной платформы пока не имею.
– В том и беда, Гена, что такие, как ты, умные, сильные – держатся в стороне в качестве этаких по– путчиков–наблюдателей. Уж известно про нас – все ждем, чтобы жареный петух клюнул.
– Зато когда клюнет – нам удержу нет никакого, – несколько приободрил старика Афиноген. – Тогда уж русский человек стенку лбом прошибает.
– Прошибает, – согласился Петр Иннокентьевич. – Да что толку. Ни стенки, ни головы… Вы, девушка, разумеется, тоже находитесь в числе пассивных наблюдателей творящихся бесчинств?
– Я не очень понимаю, каких бесчинств?
Афиноген толкнул невесту в бок локтем, но было поздно. Великое горе сомкнуло уста беззаветного защитника природы. Меленько, по–козлиному тряс он головой, опуская ее все ниже и ниже. О чем думал он? Верховодов, отрешившись от идущего дня, задумался о том, что дело, которому он отдавал последние убывающие силы, видимо, находится в упадке и никому не нужно. В этом он убеждался на каждом шагу. Повсюду его доброжелательно выслушивали, сочувствовали его убеждениям, обнадеживали, но даже те, от кого многое зависело – ученые, представители власти – в конце концов начинали поглядывать на него с нетерпением и вежливым неудовольствием, как на человека, который, погрузившись в стариковские разглагольствования, отрывает их от многих более насущных вопросов. Ему было удивительно, как люди, наделенные полномочиями, образованные, не понимают, что нет и не может быть вопроса более важного и неотложного, чем сохранение и продление жизни природы в том порядке и в той красоте, в какой она сохранялась испокон веку. Как могли они не чувствовать, что пренебрежение к природе не просто немилосердный акт, а удавка, которую люди сами накинули себе на шею и сами скаж– дым днем затягивают все туже и туже. Недалек и виден тот день, когда эта удавка в буквальном смысле перетянет горло и человеку нечем станет дышать. Не понимали?.. В том–то и ужас, что понимали, и ничего не делали. Так же нерадивый и ленивый хозяин откладывает со дня на день ремонт квартиры, пока грязь и плесень не разъедят стены и изо всех щелей не хлынут в гости к жильцам полчища тараканов, клопов и всяческой мрази, у которой и названия–то нет никакого… Что может сделать он один, старик, собирающийся вскоре покинуть этот мир? Зачем все его хлопоты, если такая вот свежая цветущая девушка, прекрасная, как сама природа, оказывается даже не знает, о чем идет речь.