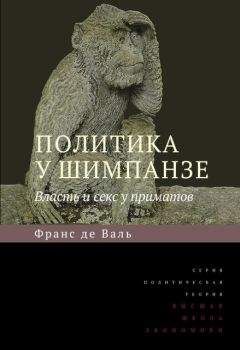Эдмунд Вааль - Заяц с янтарными глазами: скрытое наследие
Тут активно идет «братание»: встречаются японские, американские и европейские друзья, которым подает суси и пиво госпожа Канэко, горничная. Это «свободная территория».
И очень своеобразный дом. Здесь нет ничего даже близко похожего на сумбур, царивший в детские годы Игги в венском дворце: театральный интерьер с золотистыми ширмами и свитками, с картинами и китайскими вазами, — таково это новое пристанище для нэцке.
Потому что в центре этого дома, в самом центре жизни Игги, помещены нэцке. Игги сам спроектировал для них стеклянный шкаф. Стена за ним оклеена бумагой с рисунком из бледно-голубых хризантем. 264 нэцке не просто вернулись в Японию: они снова выставлены в гостиной. Игги разместил их на трех длинных стеклянных полках. В шкаф вмонтированы лампы, так что в сумерках витрина начинает светиться всеми оттенками сливочного и бежевого. Ночью они могут освещать всю комнату.
Здесь к нэцке вернулась их японская сущность.
Они перестают быть диковинками. Они становятся поразительно правдивыми изображениями здешней еды: моллюсков, осьминога, персиков, хурмы, бамбуковых побегов. Вязанка хвороста, лежащая возле кухонной двери, в точности такая же, как и это нэцке работы Соко. Медлительные черепахи, карабкающиеся друг другу на спину у пруда возле храма, напоминают нэцке работы Томокадзу. Возможно, теперь ты не встречаешь монахов, бродячих торговцев и рыбаков, и уж тем более тигров по пути на работу, в Маруноути, зато гримаса продавца рисовой лапши на вокзале очень похожа на недовольное лицо вот этого крысолова.
В нэцке использованы те же образы, что на свитках и золоченых ширмах. Им есть с чем побеседовать в этой комнате — в отличие, например, от картин Моро и Ренуара, оказавшихся в комнате Шарля, или от серебряных и стеклянных флакончиков для духов на туалетном столике в гардеробной Эмми. Нэцке изначально были предметами, которые нужно трогать, вертеть в руках, — и вот теперь они влились в мир других вещей, которые тоже нуждались в прикосновении. Их объединяет родство материалов (в Японии из слоновой кости и самшита делают палочки для еды), а еще формы некоторых фигурок восходят к здешним реалиям. Есть целый тип нэцке, мандзю, названных так по имени маленьких круглых сладких пирожков, которые едят с чаем или преподносят в качестве омияге — скромных даров, которые принято дарить в Японии, если вы куда-то идете или едете. Мандзю плотные и на удивление тяжелые, но от прикосновения пальцев они слегка пружинят. Поэтому, когда берешь в руки мандзю, большой палец невольно ожидает такого же пружинящего эффекта.
Многие из японских друзей Игги никогда раньше не видели нэцке, тем более не прикасались к ним. Дзиро лишь помнил, что его дедушка, предприниматель, надевал на свадьбы и похороны темно-серое кимоно (между лопаток, на груди и на рукавах — пять геральдических знаков). На ноги надевались носки с раздвоенными мысками и деревянные гэта, вокруг талии повязывался широкий пояс-оби с плотным узлом, а с него на шнурке свисало нэцке. Кажется, какое-то животное. Может быть, крыса? Но нэцке исчезли из обихода еще восемьдесят лет назад, в начале периода Мэйдзи, когда ношение кимоно мужчинами стало порицаться. На вечеринках у Игги, когда на столах расставлены стаканы с виски и тарелки с эдамаме — хрустящими зелеными бобовыми стручками, — витрину открывают. Нэцке снова по очереди берут в руки, вертят, рассматривают и восхищенно комментируют. Иногда гости разъясняют хозяину их значение. На дворе 1951 год, год Зайца, и в руках у Игги нэцке из слоновой кости самого светлого оттенка во всей коллекции. Друзья объясняют: это ведь лунный заяц, потому он такой светлый. Мчится по волнам в лунном свете.
В последний раз нэцке вот так разглядывали и передавали друг другу в Париже — в доме Эдмона де Гонкура, или Дега и Ренуар в гостиной Шарля, служившей образцом тогдашнего хорошего вкуса: это был диалог между эротизированной экзотикой и новым искусством.
Теперь же, оказавшись на родине, в Японии, нэцке стали напоминанием о беседах с дедушками или бабушками о каллиграфии, о поэзии или о сямисэне. Для японцев, гостей Игги, они были частью утраченного мира, который вызывал у них ностальгию еще и из-за убогой серости послевоенной жизни. Глядите-ка, будто укоризненно говорили нэцке, какие роскошные были времена.
А еще они сделались здесь частью новой разновидности «японизма». Аналоги дому Игги можно найти в журналах 50-х годов, посвященных дизайну: там подчеркиваются мода на японское в интерьере. Намеком на Японию может служить характерная фигурка Будды, ширма, грубый деревенский кувшин. «Архитектурный дайджест» пестрит статьями об американских домах со всеми этими предметами, которые соседствуют с золотой фольгой в холле, с зеркальной стеной, с тканями из шелка-сырца на стенах, большими окнами от пола до потолка и картинами абстракционистов.
В этом токийском доме американца, поселившегося в Японии, имеется токонома — ниша, играющая важную роль в традиционных домах. Это пространство, отделенное от остального дома необработанным стволом дерева. Рядом с картиной-свитком и японской чашей стоит корзина с деревенскими травами. На стенах висят современные японские картины модного молодого художника Фукуи, изображающие бесцветные, чахлые фигуры людей и лошадей. На полках выстроилось исчерпывающее собрание книг Игги: японское искусство, Пруст рядышком с Джеймсом Тербером, множество американских детективов.
Но здесь же, среди предметов японского искусства, висят и несколько картин из венского дворца Эфрусси, купленных дедом Игги, Игнацем, в годы головокружительного взлета, который пережила семья в 70-е годы XIX века. Портрет мальчика-араба работы художника, которому Игнац помогал в путешествовать по Ближнему Востоку. Парочка австрийских пейзажей. Небольшой голландский пейзаж с несколькими довольными коровами, когда-то висевший в дальнем коридоре. В столовой, над сервантом, висит меланхоличная картина, изображающая солдата с мушкетом в сумрачном лесу, некогда висевшая в гардеробной отца Игги, в конце коридора, рядом с большим полотном «Леда и лебедь» и бюстом герра Бесселя.
Это те крохи, что удалось вернуть Элизабет в Вене в рамках реституции. Теперь они соседствуют с японскими свитками Игги. Это тоже, в некотором роде, «братание»: Рингштрассештиль — в Японии.
Все эти фотографии очень живые: они лучатся счастьем. У Игги была способность быстро завязывать дружбу, где бы он ни оказывался. Есть даже снимки, сделанные во время войны, где он с приятелями-солдатами играет с приблудившимся щенком в разрушенном бункере. В Японии он часто и охотно принимает японских и европейских друзей. Это «свободная территория».
Его счастье еще более усложнилось, когда он переехал в другой красивый дом с садом, в еще более удобном районе Токио — Адзабу. Ему была неприятна сама идея этого квартала — гайдзинской колонии, населенной дипломатами, — но сам дом располагался на холме. Там была вереница смежных комнат, а под окнами расстилался сад, полный белых камелий.
Дом этот был достаточно велик, чтобы Игги мог выстроить там отдельную квартиру для своего молодого друга Дзиро Сугияма. Они познакомились в июле 1952 года. «Я случайно встретил в Маруноути бывшего одноклассника, и тот представил меня своему боссу Лео Эфрусси… Две недели спустя Лео (я всегда называл его Лео) позвонил мне и пригласил поужинать с ним. Мы ели лобстера „термидор“ в саду на крыше „Токио-Кайкана“… И с его помощью я получил работу в старой компании ‘Сумитомо-Мицуи»’. Им предстояло провести вместе сорок один год.
Дзиро было двадцать шесть, он был строен и красив, бегло говорил по-английски, любил Фэтса Уоллера и Брамса. В то лето, когда он познакомился с Игги, он только что вернулся из Америки, где три года учился в университете, получая стипендию. Его паспорт, выданный оккупационной администрацией, имел номер 19. Дзиро помнил, с каким волнением он думал о том, как примут его в Америке, и как о нем написали в газетах: «Юноша-японец, отбывающий в Америку в сером фланелевом костюме и белой оксфордской рубашке».
Дзиро был средним из пятерых детей в семье торговцев, которая занималась изготовлением деревянной лакированной обуви в Сидзуоке — городе, лежащем между Токио и Нагоей: «Наша семья делала лучшие гэта, покрытые лаком уруси. Мой дед Токудзиро разбогател на этих гэта… У нас был большой традиционный дом с мастерской, где работало десять человек, и все они жили там же». Это было преуспевающее, предприимчивое семейство. В 1944 году восемнадцатилетнего Дзиро отправили в подготовительную школу при токийском Университете Васэда, а затем и в сам университет. Он был слишком юн, чтобы участвовать в войне, но своими глазами видел, как Токио превращается в руины.