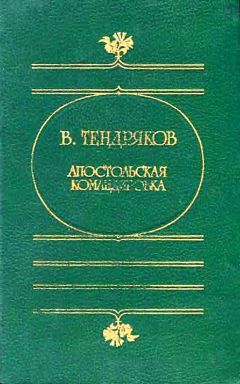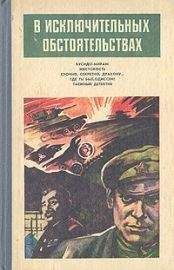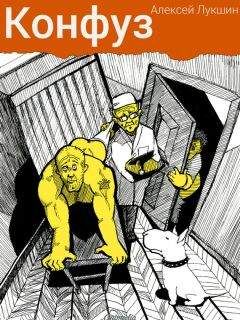Алексей Козырев - Трансплантация (сборник)
В этот момент откуда-то из приемной послышался топот ног, затем грохот падения чего-то и крик: «Стой, кому говорю!».
— Впрочем, какая теперь разница? — махнула рукой в сторону двери Елена Александровна. — Похоже, что он уже тут. Не знаю. Бред детский слушать…
На этот раз тяжелая дубовая дверь директорского кабинета долго дергалась то в одну, то в другую сторону, скрипя всеми своими петлями и, наконец, широко распахнулась.
На пороге появилась тщедушная фигурка растрепанного и раскрасневшегося Сережи Есенина, а за ним, пытаясь удержать мальчишку за рубашку, тяжело дышал вахтер.
— Дайте мне сказать! — Голос у мальчика дрожал от волнения. — Иначе я все равно не уйду отсюда.
С этими словами он изогнулся и с силой врезал вахтеру головой чуть пониже объемного живота. Тот охнул, согнулся пополам и отпустил рубашку. Освободившись от вахтера, Сергей через весь кабинет бросился к столику с граммофоном, лег на стол и крепко обхватил его обеими руками.
— Я, пожалуй, пойду, — все еще держась за живот и что пониже, беззлобно сказал вахтер, — а на вашем месте я бы парня послушал, все одно без КамАЗа его от граммофона не оттащите. Да, веселенькая у вас комиссия, — закончил он, закрывая за собой дверь.
— Я голосую за то, чтобы выслушать Сергея, — решительно сказал Мартов, — как председатель комиссии всю ответственность готов взять на себя.
— Конечно, надо послушать. Семь бед — один ответ, — встал на его сторону Кактус.
— Итак, кто «за»? — обратился к членам комиссии Мартов. — Поднимите руки.
Преимущество в один голос Мартову показалось недостаточно убедительным. И тут он вспомнил про дальний и самый темный угол кабинета. Подойдя к увлеченному репортажем Смердину, Мартов сдвинул на его голове наушник и громко прямо в ухо прокричал:
— Вы, Смердин, «за» или «против»?
— Ой, напугали, — подпрыгнул от неожиданности Смердин, — а вы, Александр Сергеевич, как голосовали?
— Я «за».
— Ну так, значит и я «за», а как иначе, мы же, на самом деле, договорились, как председатель, так и я, — Смердин высоко поднял руку, затем сдвинул назад наушник, — все, коллеги, тут как раз пенальти бьют…
— Ну что же, решение принято, — подвел итог голосования председатель. — Давай, Есенин, отцепляйся от граммофона и рассказывай. Только с одним условием — кратко и по делу. Мы тебя слушаем.
— Здравствуйте, я Сергей Есенин, — видно было, что мальчик очень волнуется, он даже немного заикался. — Я очень вас всех прошу разобраться и помочь. Володя, брат мой, — самый лучший человек на свете. Он и в школе отличником был. Учил меня и Настю читать, писать, рисовать. Всего Есенина знал наизусть. Спасибо Вовке, теперь и я тёзку своего хорошо знаю. Я очень многим Вовке обязан, он и защищал нас всегда… А того подонка он правильно приговорил. И если уж отвечать, то это скорее я должен, а не он. Ведь это они меня на иглу посадили. В одиннадцать лет. Только Володя смог меня вытащить. А они снова… Думаете, меня одного?! И ничего им не сделаешь. Главный-то — это сынок нашего областного прокурора. Они, я уверен, руки приложили и к смерти Насти, сестрёнки моей. Только как докажешь-то? Ну, Володя и пошел разбираться. Думал поговорить по душам, может быть, пару раз по мордам врезать, не больше. А стрелять они первыми начали. У Вовки и оружия-то никогда в жизни не было. Ну, самбо и бокс — тут он силен. Кандидат в мастера. Вот и получился труп. Вся милиция с ног сбилась. А он сам через пару дней пришел с повинною… И не виноват он вовсе, а в колонии ему плохо очень. Не вытянет он всего срока, тем более во взрослой. Я-то его хорошо знаю. — Чуть отдышавшись, громко проглотив слюну, Сережа подбежал к Мартову и встал перед ним на колени: — Александр Сергеевич, я читал ваши книги, они такие добрые. Значит, и вы добрый. Умоляю вас! Маму нашу пожалейте… Умрёт она, не дождётся Вовки. Меня тоже пожалейте. Очень вас прошу, дорогой Александр Сергеевич. Вы хороший! Я верю вам! — Мальчик поднялся с колен. — Вы разберетесь и сами потом убедитесь, сами поймете… Плохо, если поздно будет… Очень плохо! — Поняв, что время его вышло, мальчик тяжело вздохнул, подошел к двери и уже с порога завершил: — …Короче, так. Не помилуете, брошусь под машину, и все. Честное слово, брошусь! Мамой, братом, памятью Настеньки, Богом — кем хотите, клянусь!!! Мне тоже теперь терять нечего. В общем, решайте… — Массивная дверь захлопнулась со страшным грохотом и скрипом.
Наступила тишина, прерываемая лишь стуком маятника старинных часов в углу директорского кабинета.
— Час от часу не легче, — нарушил молчание Мартов. — Не знаю, как остальным, но мне показалось, что парнишка был искренен. А что, если он прав и все так и было?
— И если вдруг действительно сиганет под машину? Мы же ещё и виноваты будем, — забеспокоилась Елена Александровна.
— А мне кажется, волноваться не нужно, — попробовал снять напряжение Кактус, — давайте спокойно всё взвесим. Да, сейчас мальчишка явно на взводе, но, скорее всего — это я вам как врач говорю — пройдет немного времени, и он успокоится.
— Знаете, — чуть ли не впервые не согласился с доктором Мартов, — нам как-то от вашего «скорее всего» легче не стало…
— Мне, если честно, тоже тревожно, — Елена Александровна была в явном смятении, — но вспомните, — неуверенно продолжила она, — вспомните, мы с вами раз и навсегда договорились не сомневаться в приговорах суда. Это и в указе прописано. Есенин кается, а мы уж решаем: применять к преступнику, подчёркиваю, к преступнику, милость или нет.
— Это с одной стороны, — Мартов взял Елену Александровну за руку, — но с другой — мы все прекрасно знаем нашу милицию, да и суды наши тоже неплохо знаем.
— Самые гуманные в мире… — не смог в очередной раз не съязвить Артист.
— Вот-вот, — продолжил Мартов, — а в нашем деле как раз потерпевшими не самые простые люди оказались. Убит сын прокурора. И наверняка на следствие и суд оказывалось давление. А значит, Владимир Есенин, действительно, может, не столь уж виновен. Кто еще хочет высказаться? — Мартов посмотрел на членов комиссии.
Руку поднял Кактус:
— То есть получается, что, если твердо по закону идти, мы внимания на Сережины слова обращать не должны. А если по совести? А если мальчишка прав? Да, брат его нарушил закон. Но если детей в наркоту втравливают, а милиции дела до этого нет, то получается — он брата родного и других детей спасал. Значит, поступал по совести… И если мы сейчас будем разбираться в действиях следствия и суда, то тоже вроде по совести поступим, но где-то не в духе закона… Извините, запутался… Но уж не знаю и почему, мне кажется, что парнишка сказал правду. Вот вроде и всё. Еще раз простите за бестолковость.
— Чай пейте, — Елена Александровна поставила перед Кактусом чашку, — пока горячий. Я все-таки, Семен Алексеевич, так полагаю, что это чистой воды шантаж. Демонстративное и грубое давление на комиссию. Идти на поводу — нельзя категорически, это дорога в никуда. Один раз Есенину этому уступим и — всё! Завтра Маяковские появятся, Демьяны Бедные… и мы вместо юридически выверенных решений будем прислушиваться к ребячьему бреду.
— Вы, Елена Александровна, — согласился Ротиков, — абсолютно правы, — Есенин наш, убив человека, закон нарушил, и, значит, он преступник. А преступник, как известно, должен сидеть в тюрьме. Чтобы нам с вами, детям нашим спокойно жилось на земле. Я всю жизнь стоял на страже закона. И стоять буду всегда!
— Похоже, нам сегодня предстоит нелегкий выбор, — вздохнул председатель. — Каждый должен будет определиться, как поступить — по закону или по совести. Для вас, Ротиков, как я понял, важнее всего закон.
— Да! Закон. Притом всегда!
— Ну а я всегда выбирал совесть. И никогда, знаете ли, не жалел об этом. Тем более что законы бывают всякие. Бывают и плохие.
— Кому горяченького подлить, — предложила Елена Александровна, — но, Александр Сергеевич, по-моему, если закон плох, то надо все сделать для того, чтобы его изменить или исправить. Или я не права, коллеги?
— Абсолютно правы, — за всех ответил Ротиков. — И пока он — закон, пока он действует, его надо выполнять.
— Пока закон действует, пусть даже и плохой, вы предлагаете его выполнять? — возмутился Кактус. — А вспомните хотя бы законы фашистской Германии, обязывающие немцев сообщать в гестапо о скрывающихся евреях. И законопослушные бюргеры сообщали, направляя в концлагеря на верную смерть не только евреев, но и укрывающих их немцев. Немцев, которые, действительно, нарушили действующий закон…
— А наш доморощенный Павлик Морозов. Он не смог изменить закон, но зато свято его выполнил, — сокрушенно покачал головой Мартов. — Сколько людей погибло, сколько судеб искалечено — только потому, что для многих закон был превыше морали, совести, сострадания. Потому-то для меня все-таки закон — вторичен.