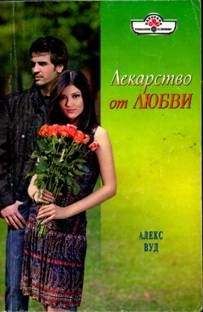Переходы - Ландрагин Алекс
— Каким подвигам? — не поняла я.
— Ну, ты же жила среди дикарей, скрывалась от полиции, готовила восстание. — Я слушала его, опешив. — В определенных парижских кругах тебя называют Королевой каннибалов.
Услышав эти слова, сородичи мои рассмеялись.
— Но это неправда, — возразила ему я. — И соплеменники мои не каннибалы.
И я принялась описывать радости и тяготы жизни в горах.
— Правда или нет, не так уж важно, — заметил он. — Важнее легенда. А легенда гласит, что ты — вождь самого старого и самого несгибаемого антиколониального повстанческого движения в империи. К тебе даже старый король Мехеви проявляет любопытство.
Мне трудно было совместить в мыслях любопытство и короля, который за эти годы послал против моих соплеменников несколько карательных экспедиций, стоивших нам многих тягот. Это в сочетании с болезнями и скудостью кормившей нас земли сильно уменьшило нашу численность.
— Какое к этому имеет отношение Мехеви?
Люсьен объяснил, что по прибытии на остров был удостоен аудиенции у короля, и по ходу разговора монарх, следуя традиции, осведомился, каковы его намерения.
— Я знаю, почему вы здесь, — сказал король. — Знаю, зачем приехали.
— Так вы знаете про мадам де Бресси, — ответил ему Люсьен.
В этот момент, по словам Люсьена, поведение короля изменилось.
— Разумеется, — сказал Мехеви. — И всегда знал.
— Знаете про Алулу? И про Коаху?
— Да! — вскричал король. — Да, да, знаю, разумеется, знаю. Однако есть в этой истории моменты для меня темные. Расскажите мне все, молодой человек.
И тогда, сообщил мне Люсьен, он поведал королю историю о том, как я познакомилась с его матерью, о Шарле, Жанне и Бодлеровском обществе, пересказал он ему и то, что знал от меня про Коаху и Алулу.
— Ты ему все открыл?
— А не надо было? — Он заметил у меня на лице смятение, скрыть которое не могли даже шрамы. — Но ты же не веришь в эти дикарские суеверия, правда?
Я поняла, что мать потрудилась передать ему собственный скепсис.
— Дело не в вере, а в фактах. Все это действительно было.
— Ну, — отвечал мне Люсьен, — насчет Мехеви можешь больше не переживать: он серьезно болен.
На следующий день после их разговора, поведал мне Люсьен, король впал в маниакальное состояние и слег. Врачам такое заболевание было неведомо. Новость о болезни короля стала для островитян неожиданностью, ибо он отличался крепким здоровьем, а еще сильнее их удивили последствия: французы незамедлительно воспользовались недугом монарха, объявили его неспособным к правлению и, ссылаясь на договор, который Мехеви подписал с ними много лет назад, аннексировали остров. Свеженазначенный губернатор, им оказался не кто иной, как бывший генеральный резидент, вселился в бывший королевский дворец, получивший название Дом Правительства, а короля переселили в бывший дом генерального резидента, переименовав его в королевский дворец; там он и лежал в своей королевской постели, оставаясь королем лишь по названию.
— Какого рода недуг поразил короля? — спросила я.
Люсьен ответил, что он вроде как впал в транс, из которого не выходит. Мехеви твердит одно-единственное слово, восклицание, повторяет его раз за разом, сильно тем смущая посещающего его священника: «Sacrilege!» Он выкрикивает это слово так громко и часто, что это поспособствовало поспешности лишения его титула. И теперь король пребывает в этом прискорбном состоянии, раз за разом выкрикивая «Sacrilege! Sacrilege!» днем и ночью — из удобной своей королевской спальни.
У меня дрожь пробежала по телу. Я вспомнила, как Шарль раз за разом выкрикивал «Сгéпоm!» до самого дня своей смерти.
— Скажи мне, — обратилась я к Люсьену, — как в день вашей первой встречи король отреагировал на рассказы о переходе и обо мне?
— Был крайне заинтересован, счел, что такую историю не грех выслушать во всех подробностях.
— А… подумай как следует, прежде чем ответить: как изменилось его поведение, когда ты закончил рассказ?
Люсьен задумался, вспоминая.
— Пожалуй, — ответил он наконец, — если перемена и произошла, то незначительная. Он почти ничего не сказал, переменилась лишь его поза. Да, если подумать, поведение его стало другим. Особенно глаза. Взгляд стал любопытным, цепким, он будто пытался удержать мой взгляд. Но я не мог смотреть ему в глаза.
— Почему?
— Что-то меня нервировало, даже ужасало. А кроме того, — добавил он, — маман учила меня не смотреть подолгу чужим людям в глаза.
Я взяла с Люсьена торжественную клятву не рассказывать ни одной живой душе ничего из того, что он только что поведал мне. Когда мы наконец разошлись спать, я не могла сомкнуть глаз. Встала с постели, пошла прогуляться при свете луны. Меня чрезвычайно встревожило то, что рассказал Люсьен, ведь оставалась вероятность, что Мехеви, а точнее, душа Жубера останется в этом мире. Я знала, что Мехеви наверняка совершил переход — переход в тело человека, имеющего привычку повторять «sacrilege». Вот только зачем?
И по прибытии на остров, и в течение тех двух десятилетий, которые я на нем прожила, я была совершенно уверена, что здесь и умру, что новых переходов совершать не стану. Я достаточно испробовала горьких плодов жизни. Достаточно причинила вреда. Достаточно утратила. Но появление Люсьена разбило все эти надежды. Речь шла не просто о страхе, я чувствовала, что в мир выпущено некое страшное зло, причем я за это зло в ответе. А что, если Закон все-таки говорил правду, просто форма этой правды не совпадала с моими ожиданиями? Что, если, совершив более века назад переход в тело Жубера, я заложила зерно уничтожения мира — именно так, как и предрекал Закон? Что, если Мехеви — это ядовитый цветок, вскормленный моим грехом: душа, не знающая совести, одну лишь ярость, приверженец самых экзотических вариантов перехода, отпущенный свободно блуждать по миру, движимый страшными и неведомыми позывами? Что, если я — единственный в мире человек, способный пресечь это зло?
Так и вышло, что через несколько дней после встречи у водопада, после печальных прощаний мы спустились с гор на равнину, и я впервые за девятнадцать лет вернулась в Луисвиль. По пути я навела разговор на предмет, занимавший все мои помыслы: переход Мехеви. Я просила Люсьена вернуться мыслями к своему прибытию. Видел ли он на Оаити или на борту своего судна человека, имевшего привычку восклицать «sacrilege»? Подумав, он ответил:
— Я хорошо помню капитана судна, на котором сюда прибыл. Его богохульства были для команды, да и для пассажиров предметом постоянных шуток. Он целыми днями вопил «Sacrilege, sacrilege!». — Люсьен посмотрел на меня. — Ты думаешь, это как-то связано с болезнью короля?
— Возможно, — ответила я, хотя, понятное дело, Люсьен подтвердил худшие мои опасения. Я не сомневалась, что Мехеви перешел в тело этого человека. — Когда мы вернемся в Луисвиль, меня, скорее всего, арестуют и посадят в тюрьму. Уверена, что меня ждет изгнание с острова. Пока вершится правосудие, ты должен выполнить одно мое поручение. Постарайся выяснить, где находится этот капитан.
Слухи о моем возвращении разлетелись быстро. На окраине Луисвиля — он успел сильно разрастись за два десятилетия моего отсутствия — собралась толпа островитян и чужеземцев, они выстроились вдоль улицы посмотреть, как Королева каннибалов сдается властям. Мы с Люсьеном дошагали до старого дворца, нынешнего Дома Правительства, на последнем отрезке нас сопровождали конные жандармы. Едва мы туда добрались, меня заковали в наручники и поместили под охрану двух жандармов. Теоретически я находилась под арестом, но поскольку на острове не было тюрьмы для женщин-европеек, меня, как и девятнадцатью годами раньше, заперли в том же номере «Шиповника». Отель за эти годы почти не изменился. Изменились лишь лица женщин, делавших ту же почасовую работу.
На следующий день меня отвели к губернатору — он же был на острове мировым судьей. Но когда его адъютант — не лейтенант Перро более, он давно отбыл, а лейтенант Тибо — постучал в дверь и обнаружил, что на мне лишь повязка из тапы, обычная одежда островитянок, он повел меня сперва в банк, где на моем счету все еще лежала внушительная сумма, а потом к портнихе. Я приобрела все, что положено носить даме из Европы: шемизетку, блумеры, корсет, баску, корсетный чехол, турнюр, нижнюю юбку, костюм, корсаж и отделку к нему, кожаные туфли, шляпу, перчатки, парасоль, ночную сорочку, вуаль и сундук, чтобы все это сложить.