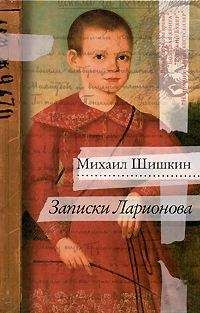Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Степан Иванович оставался стоять как стоял, расставив ноги, ссутулившись.
Орехов опустил пистолет.
— Предупреждаю вас, что это не шутка и я намерен убить вас.
Он снова поднял пистолет и прицелился. Я стоял напротив того места и видел, как он целился сначала в голову, потом, видно, вспомнив наставление Шрайбера, опустил дуло чуть пониже.
Кажется, до последнего мгновения Степан Иванович не верил, что раздастся выстрел.
Пистолет в руке Орехова дернулся, все окуталось облаком дыма, эхо выстрела прокатилось по лесу.
Степан Иванович зашатался, отступил на шаг и упал на бок. Я бросился к нему.
— Что с вами? Вы ранены?
Он был бледен, но улыбнулся мне. Когда я подбежал, он уже сидел. В последнюю секунду перед выстрелом Степан Иванович прикрылся пистолетом, и пуля, ударившись в замок, отскочила рикошетом.
Подбежал Шрайбер.
— Поздравляю вас, это второй подобный случай в моей практике.
Орехов настоял, чтобы продолжать с одним пистолетом. Пистолет Орехова снова зарядили, и все вернулись на свои места. Степан Иванович подошел к барьеру и долго стоял, не целясь.
Орехов тер пальцы, теребил пуговицы, наконец закричал:
— Что же вы медлите, стреляйте! И знайте, что если вы захотите выстрелить в воздух или иным другим способом сохранить мне жизнь, я не пощажу вас!
Тут произошло то, что никто не мог предвидеть. Степан Иванович вдруг выронил пистолет, закачал головой, схватился руками за виски, повернулся и пошел к опушке леса, туда, где мы оставили экипажи.
— Куда вы? — крикнул ему вслед Орехов.
Степан Иванович не оборачивался. Он бормотал что-то и брел, покачиваясь, между деревьев.
— Вы жалкий трус! Вы недостойный человек! Вы подлец! — кричал ему вдогонку Орехов.
Густой туман быстро спрятал сутулую фигуру Ситникова, был только слышен хруст веток под его ногами. Мимо меня прошел Шрайбер.
— Ну вот, Александр Львович, — скривил он губы, — а вы беспокоились!
За ним, сжимая кулаки, прошагал Орехов.
Я стоял, не зная, что делать, потом поднял свой плащ и тоже поплелся к опушке.
Когда я вышел к нашей коляске, второго экипажа уже не было. Мы покатили обратно к Казани. Туман уже рассеивался, выступило солнце, и молочный пар, заливший Арское поле, светился чем-то розовым и золотым.
За всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова.
Солнце было уже высоко, когда коляска выехала на Большую Казанскую. Дверь нам отворил заспанный, неодетый литвин.
— Наконец-то, — недовольно пробормотал он. — Вас тут уже дожидаются.
— Кто? — удивленно спросил Ситников.
— Сами увидите.
Мы поднялись по лестнице. Дверь в гостиную была открыта. Посреди комнаты стояла Екатерина Алексеевна. На ней было темное дорожное платье. На полу стоял саквояж.
— Господи, жив, — прошептала она и бросилась к Степану Ивановичу. Она обвила его шею руками и стала покрывать лицо поцелуями.
— Вы не знаете, не можете себе представить, что я пережила за это время!
Она вдруг отпрянула.
— Что с Ореховым? Почему вы молчите?
— Успокойтесь, Екатерина Алексеевна, — сказал я. — Орехов невредим. Дело кончилось бескровно.
— Я всю ночь молилась за вас! — Она снова прильнула к нему.
Степан Иванович обнял ее.
— Я все решила, — сказала Екатерина Алексеевна. — Так дальше жить невозможно…
— Екатерина Алексеевна, — начал Ситников, но она зажала ему рот ладонью.
— Молчите, не перебивайте меня! Я люблю вас! Я ушла из дома, навсегда, насовсем. Отец проклял меня, и я благодарна ему за это. Обратно дороги мне нет. Я люблю вас, и кроме этой любви мне ничего не нужно!
Я осторожно прикрыл за собой дверь, тихо спустился по лестнице и вышел на улицу.
Дома меня встретил Нольде.
— Вы слышали? Умер Кострицкий.
— Как умер? Я ничего об этом не знаю. Когда?
— Вчера.
— Что с ним случилось?
Нольде замялся.
— Собственно говоря, он повесился, только никому об этом не говорите. Все знают лишь, что его хватил апоплексический удар.
— Да что это он! Кто бы мог подумать! Всех смешил, а сам… Ничего не понимаю.
Нольде вздохнул и пожал плечами.
— Думаю, по пьянству. Разве в трезвом виде такое замыслишь? Завтра панихида и похороны. Жара!
Вечером я снова пошел к Ситникову. Я думал, что, может быть, чем-то смогу помочь им.
Все двери были открыты. Не было слышно ни звука. Я поднялся по лестнице, прошел в прихожую, оттуда в гостиную, в комнату к литвину — везде было пусто. Я прошел дальше и вдруг увидел Ситникова. Степан Иванович сидел в кресле, подложив под голову руку, и держал в зубах чубук давно погасшей трубки. Он смотрел в одну точку, куда-то за окно и даже не поднял на меня глаза, когда я подошел.
— А где же Екатерина Алексеевна? — спросил я.
— Где ж ей быть? Дома.
— Как дома? Что произошло?
— Ничего особенного. Я отвез ее домой. Я сказал ей, что не хочу губить ее жизнь.
Я даже не нашелся сначала, что сказать.
— Теперь я вижу, Степан Иванович, — выговорил я, — что вы действительно сумасшедший. Да-да, самый натуральный. Прощайте! — И я выбежал вон из комнаты.
Сам не понимая толком зачем, я отправился на Грузинскую. У дверей меня встретил швейцар Крылосовых, добрый малый, которому я часто давал на водку. Он не только не улыбнулся мне по обыкновению, но насупился и, стоя в дверях, смотрел куда-то за мое плечо.
— Екатерина Алексеевна дома? — спросил я.
— Барышня у себя, но вас пускать не велено.
— Что ты мелешь? Поди передай ей, что пришел Ларионов.
— Неужто я не узнал вас, Александр Львович! Да только она сама вас пускать-то и не велела!
Я дал ему на водку, потрепал по плечу и побрел оттуда прочь.
На следующий день были похороны Кострицкого. Накануне всю ночь дул сильный ветер и пригнал наутро холодную морось и низкие быстрые облака.
Я немного опоздал к назначенному часу. Были все сослуживцы с женами, я не заметил только Крылосова, и пришло еще много не знакомых мне людей. У ворот мок погребальный катафалк, окруженный мальчишками. К крыльцу была приставлена крышка от гроба. Я снял шляпу и, молча раскланиваясь со знакомыми, прошел в залу. Там я увидел покойника, лежавшего в гробу на столе. Около него горели свечи, и священник бубнил что-то невразумительное, мне даже показалось, что он был пьян.
Я с трудом признал в покойнике Кострицкого. Лицо его осунулось, заострилось, широкий нос его вытянулся, одна ноздря залипла, по коже побежали желтые пятна. Щеки были все в порезах от бритья. Мелкая черная щетина снова уже успела отрасти на мертвеце.