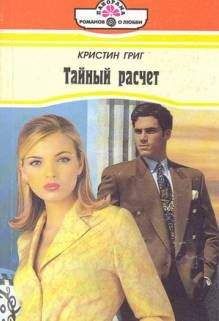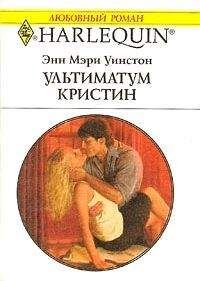Маргарет Этвуд - Пожирательница грехов
Уже скоро.
Они приедут, два вежливых молодых человека, в силу еще не вошли. Она сядет на переднее сиденье в их “вольво”, и всю дорогу, пока машина объезжает сугробы под телеграфными столбами, второй будет хвалить машину первого, а какая у тебя машина, а второй сидит рядом с ней, у него длинные ноги, торчат, как у кузнечика.
И она совсем ничего не сможет сказать. А снег летит на лобовое стекло, скрипят “дворники”, а снег красный, он идет непроницаемой красной стеной. Обман, вот от чего ей тошно, они обещали друг другу никогда не врать.
Живот, налитый кровью, голова, налитая кровью, пылающей, красной, теперь она чувствует, чувствует эту ярость, что копилась в ней долго, слова роятся в ней, словно весенние пчелы. Что-то изголодалось, ложится кольцами. Длинная песня мечется за лобовым стеклом, там, где падает красный снег, всё возрождая к жизни. Они паркуют эту распрекрасную машину, и два молодых человека ведут Джулию в зрительный зал, плиты, серый керамзит, вежливые лица, они жаждут услышать слово. Легкие аплодисменты, пара слов о ней, ничего страшного, это полезно, откройте рты и примите, как витамины, успокоительное. Нет. Не будет им сладкой ее. Она вся сожмется в кулак. Шаг вперед по сцене, слова свились в клубок, она распахнет рот — и зал взорвется от крови.
Баядеры
Постучали: неужели новый жилец? Стучала домохозяйка, и не в дверь Энн, как показалось, а в соседнюю — ту, что справа от ванной. Тук-тук-тук, потом пауза, мягкая поступь, щелкает замок. Энн отложила в сторону книгу о строительстве каналов, закурила сигарету. Она не то чтобы специально подслушивает: в этом доме все слышно.
— Здрасьте! — Миссис Нолан говорит громко, голос слащавый. — Я тут подумала: мои дети хотели бы взглянуть на ваш национальный костюм. Не могли бы вы его надеть и спуститься?
Тихий ответ. Неразборчиво.
— Вот и прекрасно. Мы вам будем очень благодарны!
Хлопает дверь, щелчок замка. Шлеп-шлеп: миссис Нолан идет по коридору, спускается по лестнице, наверняка на ней махровые лиловые шлепанцы и цветастый халат. Потом она кричит на своих двух сыновей:
— А ну быстро в комнату! — Ее голос загремел через вентиляционную решетку, словно по громкоговорителю. Да это не дети просят, подумала Энн, это она сама хочет посмотреть. Энн затушила полсигареты — половину оставила на потом — и снова открыла книгу. Что за национальный костюм? Какой на этот раз?
Щелчок замка, дверь открыли, мягкая поступь по коридору. Словно кто-то идет босиком. Энн захлопнула книгу и приоткрыла свою дверь. Белый халат, коричневый затылок, жилец то ли пугливо, то ли осторожно идет к лестнице. Энн вошла в ванную, включила свет. Эта ванная будет на двоих: у Энн всегда ванная на двоих с тем, кто живет в той комнате. Хоть бы этот жилец был поприличнее — предыдущий все время оставлял свою бритву и стучался, когда Энн принимала душ. Большой плюс: в этом доме можно не бояться, что тебя изнасилуют и прочее. Миссис Нолан надежней всякой сигнализации и всегда дома.
Тот предыдущий жилец был из Франции, изучал киноведение. До него в комнате жила девушка-турчанка, училась на литературоведении. Ее звали Лела — по крайней мере, так звучало ее имя на слух. Энн регулярно находила в раковине ее красивые длинные золотистые волосы: Энн брала волос в руки и с завистью водила по нему пальцами, а потом выбрасывала. У нее самой была стрижка чуть ниже ушей, потому что волосы тонкие и быстро секутся. Еще у Лелы впереди был золотой зуб, и он сверкал, когда она улыбалась. Странно, Энн завидовала даже этому. И золотой зуб, и эти волосы, и сережки-кольца с бирюзой — все как у цыганки, и у Лелы такой умудренный вид, а Энн с ее бежевыми бровями и аккуратным ротиком никогда не сойдет за умную, как ни старайся. Сама Энн предпочитала “классику” — прямые юбки и тонкие шерстяные свитера — только это ей и шло. Но Лела и Энн дружили, заскакивали друг к дружке в гости, курили, обсуждали учебу, и миссис Нолан, и какой громкий у нее голос. Поэтому Энн знала обстановку той комнаты, знала, где что стоит и сколько стоит аренда. Не шикарное, конечно, помещение, и Энн не удивлялась, что жильцы так часто меняются. Оттуда воздуховод шел напрямую в шумную комнату Ноланов. Лела съехала, потому что не выносила шума.
Та комната была поменьше и дешевле, чем комната Энн, хотя стены покрашены в такой же унылый зеленый цвет. В отличие от комнаты Энн, в этой не было ни маленького холодильника, ни раковины, ни плиты, и приходилось пользоваться кухней в передней части дома, а эту кухню многим раньше оккупировали студенты-математики из Гонконга — двое парней и девушка. У соседа Энн было два варианта: либо есть в кафе, либо на кухне с математиками, и то, что они обсуждали по-английски, все равно было как китайская грамота. И холодильник вечно забит грибами. Это все Лела рассказала. Слава богу, Энн с ними не общалась, потому что у нее в комнате своя плитка. Она знает этих ребят в лицо, она их видит, когда выходит из дому или возвращается из университета. За едой они, наверное, обсуждают иррациональные числа. Энн подозревала, что Лелу коробили не грибы, а сами гонконгцы: с ними она чувствовала себя идиоткой.
Каждое утро, собираясь на занятия, Энн осматривала ванную, ожидая найти хоть какие-то следы присутствия нового жильца — волосы, парфюмерию, — и ничего не находила. Его вообще не было слышно: лишь иногда — мягкая босая поступь или щелчок дверного замка. Даже радио не играет, и никто не кашляет. Первые две недели она его даже толком не видела, кроме того случая, когда мельком углядела со спины высокую фигуру в развевающихся одеждах. Кажется, он не пользуется кухней, математики там колдуют, и никто их не трогает. И Энн забыла бы про нового жильца, если б не миссис Нолан.
— Он такой милый, в отличие от некоторых, — пронзительным шепотом говорила миссис Нолан. Она кричала — и на мужа, когда тот был дома, и больше всего — на детей, но с Энн разговаривала шепотом, хриплым и горячечным, словно обе они знали какую-то неприличную тайну. Обычно миссис Нолан доставала Энн в коридоре, у ее дверей: миссис Нолан знала университетское расписание. Она просто делала вид, что хочет помыть ванную, а потом, если ей хотелось чем-нибудь поделиться, выходила оттуда и подлавливала Энн — в одной руке тряпка, в другой — паста “Аякс”. Миссис Нолан была низкорослой, бочкообразной — она едва доставала Энн до носа, и Энн смотрела на хозяйку сверху вниз, словно на ребенка.
— Он из какой-то арабской страны. Я-то думала, что они там в тюрбанах ходят или, может, они не так называются — такие, на голову наматываются. А у него просто смешная такая шапочка типа как у храмовников. По-моему, не похож на араба. У него татуировки на лице. Но он очень милый.