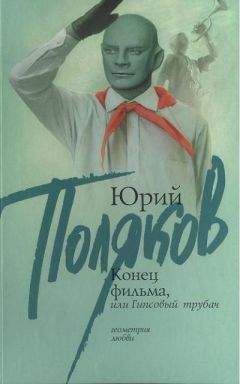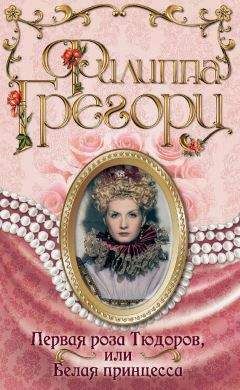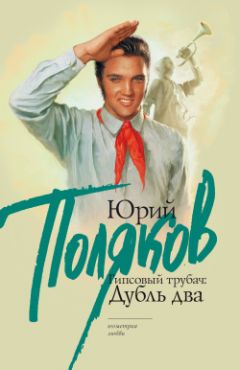Юрий Поляков - Гипсовый трубач
Тая мгновенно, буквально с первого глотка запьянела, громко смеялась и, отмахиваясь от приставучих мужчин, танцевала у костра одна. Это был какой-то странный, неведомый Кокотову танец, иногда в нем угадывался модный несколько лет назад «манкис», иногда — что-то похожее на одиночный вальс… На девушке были узенькие бриджи и просторная белая майка с надписью «Make love not war!», надетая прямо на голое тело, о чем волнующе свидетельствовали выпиравшие соски. Чтобы отвлечь облюбованного юношу от грешного зрелища, Галина Михайловна, интимно приникнув, шептала, что у нее в библиотеке есть специальный шкаф, где хранятся книжные дефициты: «Анжелика», Сименон, Саган, Пикуль, Проскурин, зарубежные детективы, антология мировой фантастики… И даже «Декамерон»!
— Заходи, дам почитать! — со значением пригласила она.
От нее так сильно пахло духами и немолодым вожделением, что Кокотова замутило. Впрочем, он после водки пил крымскую мадеру и даже «Фетяску». Тем временем наглый Батенин оторвался от Екатерины Марковны, кормившей его, как сына, лучшими кусками шашлыка, и ввязался в одинокий танец Таи, на которую уже не обращали внимания: ну извивается себе — да и ладно! Он хамовато, как пэтэушник, облапил девушку и, грубо подчиняя ее вольные движения, заставил топтаться на одном месте, пошло раскачиваясь из стороны в сторону, а потом полез к ней под майку, сохраняя при этом на лице выражение дебильного равнодушия.
— Fuck off! — крикнула Тая и попыталась вырваться.
— Тихо! — Витька прижал ее еще крепче.
Кокотов хотел подняться на выручку, но библиотекарша удержала. Старвож тоже пытался призвать к порядку, однако ему окончательно отказали не только нижняя губа, но и все остальные части тела. Полнота власти перешла к Ник-Нику. Он решительно подошел к Батенину, который был выше его на голову, и сказал голосом народного дружинника:
— Прекратить безобразие! Немедленно!
— Чего-о?! — Верзила презрительно глянул вниз.
— Прекратить! — повторил Ник-Ник, выдернул Витькину пятерню из-под Таиной майки и заломил ему руку за спину со сноровкой самбиста.
— Ой, сломаешь!
— Сломаю!
— Сдаюсь! — дурным голосом взвыл Батенин.
И педагогический коллектив рассмеялся — прежде всего от этого ребячьего «сдаюсь». Повариха Настя бросилась физруку на шею, будто он с риском для жизни обезвредил опасного преступника. И только тут все заметили, что Тая сидит на траве и жалобно всхлипывает. Ник-Ник в руководящем упоении строго обозрел подчиненных, внимательно вглядываясь в каждого, словно взвешивая все «за» и «против». Наконец ткнул пальцем в Кокотова и приказал:
— Отведешь ее домой! Под личную ответственность!
— Николаич, давай лучше я отнесу! — вызвался Батенин.
— Не надо! Не умеешь… — отрезал физрук.
Тая жила в клубе, в комнатке под самой крышей, рядом с кружком рисования. Шла она сама, лишь иногда ее шатало, и девушка хваталась за сопровождающего, чтобы не упасть. Андрей подхватывал, но очень осторожно, боясь, что художница подумает, будто он хочет воспользоваться ее пьяной вседоступностью. Один раз, удерживая девушку от падения, он случайно тронул ее грудь — и тут же отдернул руку, точно обжегся…
По дороге Тая без умолку говорила про луну, которая всегда сводит ее с ума, про «предков», которые ничего вообще не понимают, про какого-то Даньку, который после того, что случилось на даче, никогда на ней не женится… Несколько раз она спрашивала, как зовут сопровождающего, но тут же забывала и снова спрашивала.
В ее мансарде пахло парфюмерией и масляными красками. Под окном стоял раскрытый этюдник: на картоне был нарисован рыжекудрый ангел, сидящий на облаке и зашивающий золотыми нитями свое разорванное крыло, разложенное на коленях.
— Нравится? — спросила Тая.
— Очень!
— Тебя как зовут? — снова спросила она.
— Андрей…
— Ты хороший мальчик! Не такой, как они. А Данька — вообще скотина! И Лешка — тоже скотина…
Тая, пошатываясь, подошла вплотную к Кокотову, положила ему руки на плечи, встала на цыпочки и вдруг впилась в его губы пьяным сверлящим поцелуем. Будущий эротический писатель от неожиданности попятился, потерял равновесие и с размаху упал на кровать, спружинившую, как батут.
— Сволочь!
— Кто? — похолодел он.
— Данька! Ему для друга ничего не жалко! Понимаешь?! Меня ему не жалко! И мне тоже теперь себя не жалко!
Одним одаривающим движением она стянула с себя майку. Грудь у нее была маленькая, почти мальчишеская, зато соски крупные и красные, точно воспаленные. Плечи покрыты веснушками. В следующий момент Тая, держась за стул, вышагнула из бриджей, павших на пол вместе с черными трусиками. Бедра у худенькой художницы оказались умопомрачительно округлые, а рыжая треугольная шерстка напоминала лисью мордочку с высунутым от волнения влажным розовым язычком.
Насыщаясь этим невиданным зрелищем, Кокотов ощутил во всем теле набухающий гул.
— Ну? — Тая наклонилась к нему, взяла его руки и положила себе на грудь.
Соски были такими твердыми, что при желании на них можно было повесить что-нибудь, как на гвоздики.
— Нравится?
— Да… — еле вымолвил он сухим ртом.
— Разденься!
Андрей вскочил и начал срывать с себя одежду, боясь, что вот сейчас эта ожившая греза подросткового одиночества исчезнет или Тая передумает, обидно расхохочется и оденется. А если даже не передумает, то он обязательно сделает что-нибудь не так и будет позорно уличен в полном отсутствии навыков обладания женщиной. Но художница с благосклонным удивлением посмотрела на Кокотова, оценив его дрожащую готовность.
— Вот ты какой! — игриво произнесла она фразочку из популярной в те годы юморески и толкнула вожатого на постель.
Он снова упал навзничь, а Тая, засмеявшись, тут же с размаху его оседлала. (Так, должно быть, кавалерист-девица Дурова вскакивала на своего верного коня, чтобы мчаться в бой.) Андрей испугался страшного членовредительства, с которым неизвестно потом в какой травмопункт и бежать, но опытная художница умелой рукой в самый последний миг спасла Кокотова для двух будущих браков и нескольких необязательных связей. Едва он успел осознать влажную новизну ощущений, как в голове одна за другой начали вспыхивать шаровые молнии мужского восторга. Прошив тело насквозь, они, отнимая рассудок, мощно взрывались в содрогающихся чреслах Таи.
— Вот ты какой! — одобрительно прошептала она, когда молнии закончились.
И засмеялась, но уже не с гортанной хмельной отвагой, а тихо и грустно.
— А ты? — спросил он.