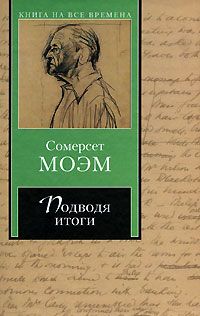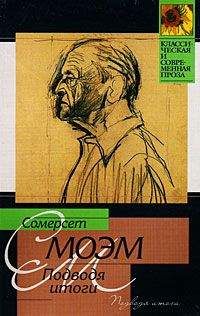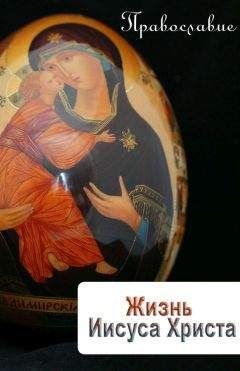Константин Шеметов - Ослик Иисуса Христа
И вот однажды, прогуливаясь вдоль набережной, Кэндзи услышал крики о помощи. Он огляделся и вдруг приметил в воде (метрах в двадцати от берега) машущую руками женщину. Она явно тонула, и Оохаси бросился её спасать. События развивались чрезвычайно стремительно. Думать было некогда. Кэндзи повиновался инстинкту.
Он с разбегу кинулся в море, схватил несчастную (довольно тяжела, промелькнуло в голове) и стал грести к берегу. Как назло задул ветер, волны мешали плыть, но Оохаси плыл. «Откуда и силы взялись», – вспоминал он позже. Когда же их в последний раз накрыло волной (а отступала волна – вечность, словно при замедленной съёмке), Кэндзи не мешкая собрался и что было мочи вытолкнул наконец бедную женщину на сушу.
С минуту-другую оба лежали без движения.
Кэндзи не мог надышаться, а его «утопленница» лишь улыбалась, глядя в пространство. «Спасая человека, вы и сами будто спасаетесь, – пишет Ослик. – Жизнь кажется не такой уж и напрасной. Кто спасал кого-нибудь, знает – прекрасное чувство освобождения от множества предыдущих сомнений и комплексов».
Да не тут-то было. Отдышавшись, Кэндзи явственно услышал смех. Люди на пляже громко смеялись. Некоторые из них даже привстали и, указывая на Оохаси, издавали лающие звуки и грязно ругались. «Невыносимо лающая речь, – отметил про себя Кэндзи. – Неужели и Пушкин (Александр Пушкин – гордость их нации) тоже гавкал?» Может, и так – разочарование приходит внезапно. В этом месте Ослик делает небольшое отступление о безотчётной (а порой и необоснованной) гордости за что-либо и вскоре приходит к выводу: ссылайся на Пушкина или нет – умней не станешь. Но вернёмся к Оохаси (и что он забыл в Крыму?).
Отдыхающие на пляже совершенно искренне и не ведая страха (страна непуганых идиотов) глумились над ним. Казалось, Оохаси совершил нечто позорное. Даже женщина, которую он спас, неожиданно приподнялась и, едва удерживая себя рукой о гальку, язвительно расхохоталась.
«Ну что, дурила, бабу спас!?» – безумствовала она и всё как-то понемногу и незаметно подбиралась к воде. Изо рта у неё разило. «Саке», – подумал Кэндзи.
Но и это ещё не всё. Дождавшись новой волны, женщина вдруг вскочила и вновь кинулась в море. Кэндзи кинулся за ней. С полчаса они так и скакали туда-сюда, пока всё не кончилось: «баба» утонула, а Оохаси выбрался на берег и под громкие аплодисменты зевак (измождённый и обескураженный) упал.
Аплодисменты стихли, люди расходились, а он всё лежал на острых камнях лицом вниз и то рыдал, то тихо плакал.
«Плачь или нет – ничего не изменишь, – пишет Ослик. – Жизнь человека в России ничего не стоит». Ближе к ночи Кэндзи поднялся и побрёл к себе в отель. Безжизненное тело русской женщины выкинуло на волнорез. Тело как тело, мало ли мёртвых на земле. Но в том-то и дело – ещё час назад тело было живым, а стало мёртвым по глупости и с согласия окружающих! Из отеля Кэндзи позвонил в милицию. В милиции приняли его сообщение, взяли адрес и пожелали спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сказал милиционер и повесил трубку.
Утром Оохаси вернулся на пляж. Сердце стучало. Его по-прежнему трясло. И что ж? Тело как лежало на волнорезе, так и лежало. Волны поутихли. В воде мирно плескались дети, какая-то собака и тучный дядя. Будто и не было никакой драмы, а добродетель, в которую свято верил японец, на деле оказалась пустой тратой времени (и сил). Добродетель лишь подрывала здоровье. Этим и закончился визит в Алушту Оохаси (до свидания, Оохаси-сан).
– Как сам? – спросила Додж у Ослика, когда Генри наконец позвонил ей. Третий день он всё не решался, и вот решился.
В голосе Додж сквозила печаль. Он рассказал ей про «Парадокс добродетели» и предложил уехать с ним в Лондон.
– Женщина и вправду погибла?
– Она утонула.
На следующий день Оохаси сел в самолёт и вернулся домой. С тех пор он не приезжал в Россию. Да и вряд ли теперь приедет.
– Кэндзи и до сих пор стыдится за русских, ведь никто из отдыхающих так и не помог ему. Они лишь смеялись над ним, а что до женщины – её судьба была им пофиг.
Ослик умолк, и с минуту связь между ним и Эльвирой будто прервалась. Из трубки доносилось слабое потрескивание и (трудно не узнать) композиция «Past and Future Ruins» Thursday.
– По-твоему, я – пьяная женщина, а ты – мистер Оохаси? – отозвалась наконец Додж.
Да, так и было. Правда, в отличие от женщины из Алушты (мёртвой и покоящейся на волнорезе), Эльвира ощущалась вполне живой, и она явно заслуживала лучшей участи.
Вскоре Ослик и Додж встретились.
Они прошлись по клубам и к утру уже были у него на Солянке. «Биосфера» функционировала, как и в прежние годы: исправно и не оставляя сомнений в техническом прогрессе (безусловно, полезным для комфорта, но весьма сомнительным в плане духовности, не говоря уже об истощении природных ресурсов). Волею случая наибольшими запасами сырья к 36-му году обладала как раз Россия. Газа и нефти хватало. Так что Ослик мог не беспокоиться: его дом хоть и потреблял уйму энергии – обходился дёшево. По крайней мере, в разы дешевле, чем аналогичное сооружение обошлось бы ему в Лондоне или, скажем, в Нью-Йорке.
Вот, главным образом, почему русские до сих пор держались. Отсюда же происходила и массовая миграция с Запада, наметившаяся в последнее время (а после кончины Путина – в особенности). С одной стороны – ощущение «оттепели», с другой – дешёвое сырьё, огромные просторы и «халява». Законы здесь не работали, РФ наводнили «распиздяи» (как точно подметила Лобачёва), Евросоюз распадался, а США едва сводили концы с концами. Такой была вкратце суть текущей геополитической модели.
Дела обстояли именно так.
«Или примерно так – не суть», – пришли к выводу Ослик и Додж, обсудив новости, и к рассвету, словно два хипстера, обнялись у камина и задремали.
Подходил к концу 2035 год. Впрочем, хипстеры они, или нет – нужно было торопиться. Через неделю в РФ начнутся новогодние каникулы, и тогда уж до февраля: ни квартиру не продашь, ни эмигрируешь по-человечески. К тому же на февраль намечалась очередная «биеннале», а Ослик по опыту знал – лучше не рисковать: и он попадётся, и Эльвира, и предстоящий полёт на Марс накроется «медным тазом» (по выражению Додж, или «пиздой» – в соответствии с русской поговоркой).
Зато опасность придавала сил. В три дня Ослик продал «биосферу», квартиру Додж (быстрый сбыт – агентство недвижимости «Знай наших!»), и приобрёл две туристические визы в Токио – одну для себя (на имя Харуз Табан – в соответствии с его новым российским паспортом), другую – для Эльвиры (Эльвира Додж – уроженка Владимира, еврейка и «лесбиянка»).
Двадцать четвёртого декабря они приземлились в токийском аэропорту Нарита, 25-го навестили «Старбакс» на Сибуя и 26-го (в пятницу) успешно прибыли в Лондон под видом супружеской пары Нодзаки. Ослик был Тосиаки Нодзаки, а Эльвира – Дзюнко. Авантюристы, короче.
Получив убежище в Великобритании, к слову, Додж так и осталась Дзюнко Нодзаки. Её устраивало и имя, и положение. Лететь на Марс она отказалась. «Что толку?» – заметила она как-то. И точно – падение астероида её не коснулось. Она быстро нашла работу, сняла квартиру в Сохо, где собственно и обрела свою радость. Иначе говоря, лучше быть Дзюнко Нодзаки в Лондоне, чем мёртвой женщиной в Алуште, выкинутой на волнорез под аплодисменты соотечественников.
В январе Ослик зачастил в Tate Modern.
Зачастил по большей части впустую, хотя раз или два всё же увидел Ингрид. Увидел издалека, но и этого хватило: он окончательно понял, что не способен к открытым чувствам. Да и не поздно ли? Почти 20 лет он любил её, но так ни разу и не признался. Не отсюда ли его «крокодилы», гаджеты и вообще – вся эта затея «изменить мир»? Вероятно, он сумасшедший.
И тогда Ослик решился на хитрость.
Позднее, размышляя о своём поступке, он находил его вполне естественным, но в те «безумные» дни он по сути преодолел себя (будь что будет). Решение далось с трудом и оказалось весьма болезненным. Можно сказать, он трансформировал классическое признание в любви (я вас люблю и т. п.) в совершенно конструктивное действие. Учёный, одним словом. Не найдя ничего лучшего, Ослик отправил свою рукопись (и четыре холста с нею) в галерею современного искусства Tate прямиком к Ингрид Ренар – директору выставки (живописных картин).
На самом деле расчёт был прост (Ослик словно играл в кости) – или Ингрид заметит его, или нет. В то время она как раз собирала художников из Восточной Европы. Так что Ослик мог и в любви признаться, и художником прослыть. Насчёт «прослыть», правда, Генри не беспокоился (на фиг надо), зато любой, кто прочёл бы его книгу, несомненно, нашёл бы в ней именно что признание в любви.