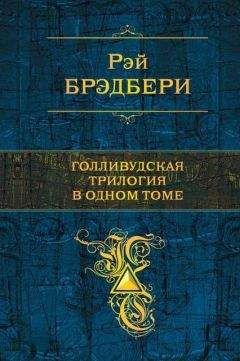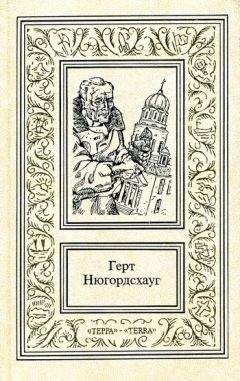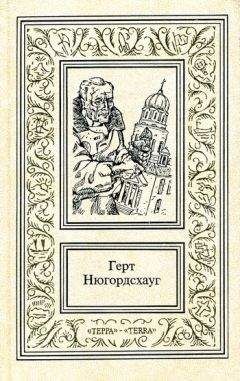Юрий Герт - Ночь предопределений
— А ведь правда! — подхватила Вера. — Отчего не съездить, Виктор Сергеевич? — Она примирительно посмотрела на Карцева, как бы стремясь затушевать свою внезапную смелость.
— И я с вами! — сделала капризную гримаску Рита. — Не хочу в степь — ветер и песок, чего я там не видала?.. Хочу в пещеру! — захныкала она. — Умираю — хочу к несторианам!..
— А верно, — Сергей чуть-чуть подмигнул Гронскому. — Ведь у них в поселке даже какого-нибудь зачуханного красного уголка — и то наверняка нет. А тут — представляете, сеанс гипноза в подземном храме!.. Блеск!..
— Как это?.. — побагровел, закипая, бородатый геолог. — Как это — нет красного уголка? Вы что — были у нас? Видели?..
— Так я и знал! — расхохотался Сергей, в полном восторге ударив себя по колену.
— Нет, что вам известно о нашей экспедиции? — сказал геолог. — И вообще, что вы все знаете о нефти?.. — Это было сказано с вызовом и вместе с тем так добродушно, с таким как бы виноватым ощущением собственного превосходства, что никто не почувствовал себя задетым; напротив, все заулыбались, и шире всех сам геолог. — Нет, верно, — сказал он. — Я вот слушаю: подземный храм, античность, несториане… А на чем она стоит, эта ваша античность, и что под ней?..
— Во дает! — выкатил глаза Сергей. — А кто первый-то заговорил о пещере?..
— Так для меня это ж совсем другое! — сказал Чуркин. — Это для меня что?.. Верхняя юра или мел, и в них — обыкновенный карст, всего и делов…
Рита фыркнула:
— Ну и слова!.. Верхняя юра!.. Просто челюсти сводит, как от зеленого яблока. Или — карст… Кар-р! Кар-р! Слово-то какое воронье!..
— А, предположим, и-но-це-рамус?.. — Чуркин запрокинул вверх свою рыжую, коротко остриженную бородку, блаженно зажмурился и не столько проговорил, сколько пропел: — Вы прислушайтесь: и-но-це-рамус… Или — керн… Только это не Анна Керн, о которой писал Александр Сергеевич, это керн, который достают с глубины в три или пять тысяч метров и которому цены нет… Представляете, — он улыбался все мечтательней, — камни, песок, по которому ступали ихтиозавры, или какая-нибудь косточка, осколок кости этого ихтиозавра или плезеозавра, зажатый между камнями, или ракушка, которой миллион лет… И вы держите ее в руках, вы смотрите и видите море, пустынный океан, где нет еще ни рыб, ни китов, ни дельфинов, и одни такие вот моллюски, налипшие на камнях, одни медузы, водоросли… А до этих самых никониан-несториан — тысячи тысяч лет…
Слишком уж он красно говорит, отметил Феликс. Слишком… Он слушал Чуркина, а сам ждал, прислушивался — не заскрипят ли половицы в коридоре, не хлопнет ли, гулкая от ветра, входная дверь.
Вина было немного, да и пили как-то вяло, без аппетита, зато балык распалил жажду, все налегли на чай из раздутого Кымкеш самовара. Чуркин чаще остальных тянул под самоварный краник свою пиалу. Он шумно схлебывал чай, обхватив ее снизу короткопалой пятерней, при этом с затаенной жадностью человека пустыни поглядывал на девушек, и щурился, и улыбался, и уже толковал с Сергеем о парафинах, то есть о свойствах, которые придают парафины нефти, добываемой в этих краях…
Феликс и Карцев пошли покурить. Во дворе меньше дуло, тут преградой ветру была скала, под которой располагалась гостиница, и забор, создающий подобие некоторого затишка. Вокруг было черным-черно; наверху, переваливая через скалу, ветер завывал с двойной силой.
Сигарета у Феликса потухла. Карцев предупредительно щелкнул зажигалкой. Когда огонек погас, придавленный колпачком, и сумрак снова окружил их, у Феликса возникло ощущение, словно не день и не два, а долгие годы они знакомы друг с другом. Наверное, такое же чувство было и у Карцева.
— Конечно, секреты творчества, муза вдохновения и так далее… — сказал Карцев. — Но вы ехали сюда, наверное, чтобы как-то собраться, сосредоточиться… А вместо этого… Или это у вас как случается — вспышка, озарение?
— Когда как. Но в общем-то вы правы. Озарение… Только что-то их все меньше, этих озарений. Их по-прежнему ждешь, а они не приходят. — Феликс помолчал. — А у вас не так? То есть я в том смысле…
— Так, — отозвался Карцев. — И в том, и в другом смысле — так… И вправду, что-то их все меньше, этих самых озарений…
Он то ли вздохнул, то ли усмехнулся в темноте.
— И постепенно привыкаешь обходиться без них, — сказал Феликс. Он словно не Карцеву говорил, а куда-то в сторону. — Но в результате получается дичь какая-то… И еще хорошо, если бы дичь. А то — серость, опилки. Вместо зеленой, солнечной, пахучей сосны — куча опилок. Хотя и они, конечно, тоже для чего-нибудь годятся. Даже доски вон из опилок прессуют…
— Прессуют, — сказал Карцев. — И облицовка из них выходит неплохая.
— Во-во, — сказал Феликс.
Оба рассмеялись.
Где-то невдалеке трубно прокричала и словно захлебнулась верблюдица.
— Я иногда думаю, — продолжал Феликс, — отчего так?.. В первую очередь, наверное, все-таки от насилия над собой. Знаете, о ком бы я написал сейчас — и легко, и быстро, и вещь бы, уверен, получилась?.. Об Авейде. Не о Сераковском, а об Оскаре Авейде. — Он говорил в том, что не раз приходило ему в голову. — Для вас это имя ничего не значит, но для восстания 1863 года оно звучит довольно громко. Конечно, в специфическом смысле. Дело в том, что Авейде — законченный, классический тип предателя. В тюрьме он многих выдал, тем самым спасся от петли, потом прожил еще тридцать пять лет в ссылке, под Вяткой и в самой Вятке, женился, занимался адвокатской практикой… Вот о ком бы я написал, не превозмогая себя и с наслаждением.
— Вот как… — задумчиво проговорил Карцев. — Но ведь этот, как вы говорите?.. Авейде? Так ведь он, насколько я понимаю, полная противоположность…
— Сераковскому?.. — подхватил Феликс. — Полнейшая!.. Наверно, все дело в том, что я — не историк. Мне надо видеть, чувствовать. Архивы, книги — это не то. Сераковского я воспринимаю умом… Нет, вру, и сердцем, и сердцем, но вот нелепость: чем глубже я влезаю, так сказать, в материал, чем достоверней для меня подробности, детали, тем дальше уходит общее, тем меньше я понимаю, каким он был в действительности, мой Сигизмунд Игнатьевич? И даже — был ли он?.. Даже так… — Признание получилось неожиданным для него самого, Феликс пожалел, что оно выплеснулось. — А что до Авейде, то его я чувствую каждой клеткой. По крайней мере, так мне кажется…
— Действительно, странно, — сказал Карцев. — Впрочем, я вас понимаю… Хотя, наверное, суть здесь в другом. Просто герои положительные в книгах удаются хуже, чем отрицательные, и писать о них трудней.
— Возможно…
— Не «возможно», а факт, — сказал Карцев, обретая уверенность. — Я вам сколько угодно примеров назову… И талант совсем тут ни при чем. Это, знаете ли, для средних веков, для религиозного сознания требовались жития святых, для читателя экзальтированного, склонного или молиться, или ужасаться… Правда, мне неизвестно, какой у вас замысел, и я не могу судить…
Ветер, хлестнувший песком, оборвал его на полуслове. Вслед за налетевшей волной внезапно наступило затишье, в небе сквозь косматые тучи прорвалась луна. Бледная, разбухшая, она низко висела над скалой, каждое мгновение готовая вновь спрятаться в тучах.
— А забавная бы могла получиться вещица, — сказал Феликс. — Это ведь не только предатель… Это, говоря строго, даже и совсем не предатель, это я для простоты назвал его предателем. На самом деле он — ренегат…
— А есть разница?
— Что вы! — Феликс прижег от сигареты Карцева свою, погасшую. — Огромная! Предатель — это Иуда, я в прямом, не в фигуральном смысле говорю про Иуду Искариота. Вы ведь помните, чем он кончил? Пошел и на первой осине удавился. Совесть, его, стало быть, загрызла, хоть и предал-то он одного-единственного человека, правда — Христа. Что же до Авейде, то он в тюрьме «Записки» написал, огромный том, они потом изданы были… Так вот, он там очень обстоятельно объясняет, почему его прежняя жизнь была заблуждением. Очень обстоятельно объясняет, то есть он пишет не про себя, а про восстание 1863 года, про то, что оно было ошибкой, и трагической, ну, а дальше уже само собой вытекает, что он, Авейде, раньше ошибался, но теперь — на верном пути. И если кается, угрызается совестью, то не в том, что называет в «Записках» десятки еще не раскрытых жандармерией имен, — угрызается, что раньше был заодно с этими людьми… Чувствуете разницу?..
— Еще бы, разница огромная… Особенно для тех, кого потом волокли на эшафот…
— А вы не смейтесь, — сказал Феликс. — Даже и то, что Иуда всего одного предал, а Оскар Авейде — десятки, — и это, если вдуматься, не случайно. Ренегаты всегда отличались особой беспощадностью. Вспомните Муравьева — «не из тех, которых вешали, а из тех, которые вешали»… У него на совести сотни жизней, и каких! Тут не только Зигмунт Сераковский и Кастусь Калиновский, — возьмите процесс ишутинцев, дело Каракозова… А ведь он одно время даже с декабристами был, в составлении устава «Союза благоденствия» участвовал, после восстания пять месяцев в одиночке отсидел, в Петропавловке. Родной брат Александра Муравьева, троюродный — Сергея Муравьева-Апостола… А Бенкендорф?.. Этот в одну масонскую ложу входил — с «братом» Пестелем, с Чаадаевым… Да только ли они?..