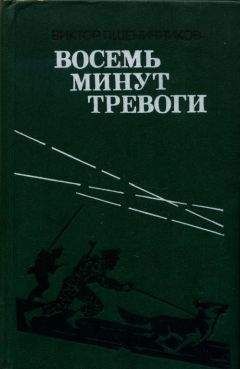Пол Расселл - Недоподлинная жизнь Сергея Набокова
Я не мог бросить его, как бы того ни желал и к тому ни стремился.
Герман никаких вопросов о моем старом школьном товарище не задавал. Я говорил себе: «Он ожидает, что я все улажу сам». И неспособность сделать это лишь усугубляла во мне тайное чувство моего ничтожества.
После нескольких месяцев довольно частых встреч — происходивших, как правило, раз в две недели — Герман предложил мне съездить с ним в Австрию. Я согласился, хоть и не без некоторого внутреннего трепета, похожего на зловещее рокотание басовых нот, которые прерывают восхитительную мелодию в самом начале Шубертовой сонаты си-бемоль.
Мы поехали экспрессом Париж — Мюнхен — в первом классе, разумеется; сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз побывал в вагоне первого класса? — а затем машина с водителем повезла нас в Тирольские Альпы. За несколько дней до того выпал первый зимний снег, толстым ковром укрывший землю, — и такого обилия снега я тоже не видел многие годы. Восточно-тирольская деревня Матрай стоит там, где сходятся три горные долины, и охраняется с востока и с запада двумя умопомрачительными пиками, Гросглокнером и Гроссфенедигером, — в день нашего приезда туда их почти скрывали низкие тучи. На утесе, возвышавшемся сразу за деревней, стоял приземистый замок Вайсенштайн.
— Не Ношвайнштайн, конечно, — с извиняющимся смешком сказал Герман, — но с другой стороны, чего еще ты мог ожидать?
— И вправду, чего? — ответил я. — Он великолепен. Да и все здесь похоже на сон. Не могу поверить, что попал сюда. И честно говоря, мне страшно.
— Бояться нечего. Мои родители — люди очень старомодные, радушные и очаровательно безголовые. Никаких поводов для страха у тебя нет.
Он говорил мне это уже тысячу раз, но я все равно боялся. И совершенно напрасно. Родители Германа приняли меня очень ласково, как и две восторженные немецкие овчарки, едва не сбившие меня с ног.
— Зигмунд! Зиглинде! — позвал их герр Тиме и резко хлопнул в ладоши. — Не убейте беднягу вашей добротой. Вы шуганите их, да построже. Настоите один раз на своем — и они будут вашими всей душой и до скончания дней.
Когда та новизна, какую я мог им предложить, собакам наскучила, они переключились на Германа, присевшего на корточки, чтобы эта парочка могла полностью выразить обуревавшее ее слюнявое обожание, облизав ему все лицо.
— Хорошие собачки, — нежно ворковал он. — Очень, очень хорошие собачки.
Познакомившись с собаками, я должным образом представился родителям Германа. Оба были беловолосы и румяны, однако Анна-Мария выглядела намного моложе Оскара. Одета она была просто, но изящно; он же носил довольно потрепанный, вышедший из моды твидовый пиджак, а лицо его украшали усы и вовсе старомодные. Оба залучились улыбками, когда Герман назвал их «возлюбленными родителями», и одобрительно закивали, когда он представил меня как «очень доброго друга». Как только багаж наш занесли в дом, Герман и его мать с заговорщицким видом удалились следом за ним, а Оскар повел меня осматривать замок, представлявший собой пеструю смесь зданий, вопиюще обветшалых и элегантно восстановленных. Он рассказал мне историю замка — от скромного рождения в двенадцатом столетии до разрастания в четырнадцатом и упадка в восемнадцатом — замок обратили тогда в богадельню, — а также возрождения в романтическом английском стиле в девятнадцатом и покупки его семейством Тиме в 1921 году. Мы посетили мощеный внутренний двор с древней цистерной для сбора воды и старые конюшни, в которых стояли теперь автомобили членов семьи. Поднялись на крепостную стену и увидели деревню, приходскую церковь Святого Альбана, много более древнюю — Святого Николая и захватывающую дух панораму гор.
— Надеюсь, милый старик не уморил тебя, — сказал Герман, когда я наконец отыскал его спальню. В камине танцевали под лившиеся из граммофона звуки трубы Бикса Бейдербека языки огня.
— Нисколько, — ответил я. — Он совершенно очарователен. Он даже показал мне голову первого из застреленных тобой медведей. Я и не знал, что любимейший мой вегетарианец был когда-то заядлым охотником.
Герман вздохнул:
— Это лишь первый из моих постыдных секретов, которые рано или поздно выйдут на свет Божий. Да, я и правду был охотником. Медведи, кабаны, олени. Теперь я в ту комнату и ступить-то не решаюсь. Но мне нравилось выходить с отцом в лес на холодной ноябрьской заре. Никогда не чувствовал такой, как в те утра, близости к нему. Мое решение воздерживаться от мяса — а значит, и от охоты — сильно его озадачило. Думаю, он так от этого разочарования и не оправился, хотя мне приятно думать, что оно было худшим из тех, какие он от меня получил. Оно да еще моя холостяцкая жизнь, которую я постараюсь затянуть на фок сколь возможно долгий. Ты окажешь мне великую услугу, если как-нибудь мимоходом упомянешь о Софи.
— А кто это — Софи?
— Самое лучшее в ней то, что ее больше нет. Ну а была она бессердечной женщиной из Мюнхена, которую я отчаянно любил несколько лет и которая ничем на мое чувство не отвечала. Тебе не кажется, что с этим разочарованием я справился совсем неплохо?
— Замечательно справился, — согласился я. — Но вот что странно, и у меня была когда-то своя Софи. Я изобрел ее, чтобы порадовать доктора, который в то время пытался меня «вылечить», и результат получился превосходный. Однако сам собой напрашивается вопрос, не правда ли? Разве не должен ты был, излечившись от страсти к милейшей Софи, обратиться к кому-то еще?
Веселость мигом покинула Германа.
— Я прекрасно сознаю это. Если бы мои родители обнаружили, что их сын — мужеложец, такое открытие убило бы их.
— Ну, если тебя это как-то утешит, могу сказать, что ни малейших признаков мужеложца в тебе не отмечается. Ты и меня-то едва не обвел вокруг пальца. Однако не боишься ли ты, что мое присутствие здесь может тебя скомпрометировать?
— Нет. Как ты, наверное, понял, родители мои — милейшие люди на свете. О тех, кого я привозил сюда, они никогда ничего дурного не думали.
Он уже успел рассказать мне о своих друзьях — об университетском вундеркинде-математике Карле, часовых дел мастере Марко, пианисте Герберте. Каждый из этих эпизодов завершался дружеским расставанием, и Герман сохранял с прежними своими партнерами сердечные отношения. По крайней мере, так он говорил. Мне трудно было поверить, что мои блестящие предшественники столь легко отступили на второй план, и потому в мрачнейшие из моих минут я начинал подозревать присутствие в Германе какого-то изъяна, обнаружить который пока не смог. На мои осторожные вопросы об этом он отвечал лишь пожатием плеч. «Кто знает? — говорил он. — Есть везение — и есть везение. А кроме того, существуешь ты».
Но так ли уж ему со мной повезло? — гадал я, прикидывая с тревогой, хватит ли мне взятого с собой опиума. Понимая, что мне придется провести целую неделю под постоянным наблюдением, я намеренно урезал количество наркотика настолько, насколько посмел, и уже ощущал сводящий с ума зуд в конечностях и неприятнейшее колотье в груди. Худшим из всего были ночи, сновидения неописуемо мучили меня — чудесные, мутившие рассудок, грандиозные, — казалось, они длились часами, однако, очередной раз пробуждаясь в испуге, я обнаруживал, что прошла всего четверть часа. Я извращенно радовался тому, что даже мысль о ночи, проведенной нами в одной постели, представлялась Герману безрассудной, и, обменявшись с ним прощальными нежностями, с облегчением возвращался в мою одинокую спальню. Моя раз за разом повторявшаяся неспособность должным образом отвечать на его ласки унижала меня не так сильно, как могла бы, ибо Герман твердил — неискренне, конечно, — что ему довольно и возможности «просто держать тебя в объятиях».
Днем мы бродили в сопровождении Зигмунда и Зегелинде по занесенной снегом деревне, посещали мессу в приходской церкви Святого Альбана (я с первого взгляда на чудесную потолочную роспись Цейллера понял, откуда взялась любовь моего друга к искусству барокко), пили в кондитерской итальянский кофе и ели очень красивые, но безвкусные пирожные. Иногда надевали лыжи, и вскоре я научился, следуя наставлениям опытного Германа, наслаждаться катанием по девственному снегу.
Австрийские Альпы далеко не так холодны, как русские равнины, да и ландшафт моего детства ничем не напоминают; впрочем, порою я краем глаза замечал среди традиционных, сложенных из бревен тирольских домов Матрая очертания барочного строения, вызывавшие из глубин моей памяти какую-нибудь полузабытую петербургскую картину. В такие мгновения мне вовсе не казалось невозможным, что сейчас из-за угла выйдет Олег, — не теперешний, придавленный жизнью Олег, но такой, каким он был в пятнадцать, шестнадцать, семнадцать лет.
А кроме того, я обнаружил, что временами мысленно возвращаюсь к давним альпийским каникулам Володи и Бобби де Калри.