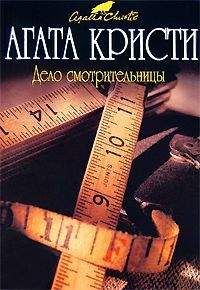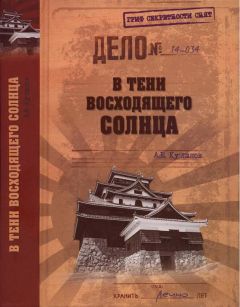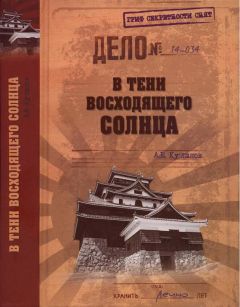Александр Мелихов - Мудрецы и поэты
– Я еще с Ленькой сегодня буду разбираться. Прреддатель! – это детским ангельским голосочком. – Он был за нас с Ромкой, а вчера перешел к Димке.
Да, не ангелочки они, а наши с тобой дети, близкая родня по общему пращуру, – ведь Авель, кажется, был бездетен? Я-то, впрочем, подозреваю, что все это трепотня – насчет роковой Каиновой печати на человеческом роде. Когда люди поймут по-настоящему, что удаль их выходит им боком, и попритихнут. Их (нас) может утихомирить лишь стопроцентная неотвратимость.
А пацанчик мой пока что воплощает извечный тип практического деятеля – весь он здесь, мир у него, как у воина Чингисхана, без задних планов, без прошлого и без будущего. Двор наш, Димка, Ромка – в них все его успехи, провалы, цели и надежды. Помнишь, у Анатоля Франса о Наполеоне с его гением «обширным и легковесным»: непревзойденным властителем делало его то, что он весь жил настоящей минутой, не думая ни о чем, кроме непосредственной действительности с ее настоятельными нуждами.
ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Мне как раз вспомнился еще один деятель, Валерка Прудников, поднявшийся по шаткой лесенке социального успеха при помощи исключительно, так сказать, духовных средств, – у него не было таких фундаментальных возможностей, как насилие и подкуп, – разумеется, в примитивном понимании этих слов.
Но он был и не из наполеонов-чемпионов, он не мог своими рекордами понаделать из публики болельщиков, чтобы они, в воображении перевоплощаясь в него, чемпиона, вопили от восторга, приветствуя в нем себя. Валерка был неспособен организовать такое массовое переселение душ с трибун стадиона на его поле, в свою чемпионскую оболочку, – нет, его личные качества располагали скорее не к болению, а к соболезнованию. Но он тоже давал волю нашим воображениям – он предоставлял нам возможность вволю лгать. Причем лгать наиболее желанным – героическим образом. Именно эта наша потребность и была основным его ресурсом. Потому ведь в нем столько и сласти, во вранье, что воображением переживается то, что врется языком. Причем врун чувствует себя героем рассказа, если даже рассказывает не о себе.
Свои мемуары о Валерке я начал бы словами: «Помню его ничем не примечательным, простодушным и неизменно веселым мальчуганом, никогда и ни на что не обижавшимся». Каждого, кто на уроке встречался с ним глазами, он смешил жутко потешной пантомимой: бесшумно стрелял в тебя из указательного пальца – кхх! – и тут же тычком большого пальца назад – тиу! – показывал свистнувшую возле уха пулю, стрелял еще – и, вытаращив глаза, хватался за нос – разорвало пистолет. Помереть можно было.
Но замечалось в нем и обострение общественной совести: когда в классе принимались кого-нибудь травить – довольно, впрочем, безобидно, дразнили в основном, – он всегда бывал в первых рядах. Но зачинщиком – никогда, да и какой там зачинщик – пресловутый камешек, вызвавший лавину.
И раз как-то, когда мы, обступив толпой, орали в уши Петьке Шутову: «Петька-петух на завалинке протух!» – бог знает почему именно это, бог знает почему именно ему, в другой раз он свободно мог оказаться одним из орущих. Сейчас, кстати, по-моему, и дразнят поизобретательнее, а у нас, бывало, заладят на разные голоса какую-нибудь дрянь, иногда даже фамилию, чуть только подпорченную, – блеют ее, мяучат… Долбят в одно место, пока все не очумеют, – и действует.
Я в тот раз как-то припоздал и старался доораться через спины в том восторге артельного труда, когда дело идет на лад. И вдруг я встретился с Петькой взглядом, и вдруг увидел у него слезы на глазах – он не мог понять, как это все – на него, все мы, еще час назад сплоченные в едином порыве в какой-то другой общей и дружной работе, когда он был другом нам и братом, как любой из нас. Фу, как нехорошо мне стало, и я, чтобы не выступать открыто против общества, под видом новой игры стал сзади оттаскивать одуревших артельщиков (обрати внимание – игра как маскировка серьезных целей!).
Оттащенные как будто очухивались и в строй уже не возвращались. Но когда я оттащил Валерку – он щупленький был и голубенький, как цыпленок за рубль семьдесят пять, «синяя птица», по выражению нынешних остряков, тут он отлип от толпы почти что с чмоканьем – всосался, как упомянутый уже Антей в матушку Землю, – так в этот раз Валерка вдруг окрысился и прошипел (ведь все отрицательные персонажи шипят): «Шпион!» – никогда он такого себе не позволял, видно и впрямь толпа была его Землей – Почвой, выражаясь современнее.
Тот Валеркин крысиный оскал мог бы кое-что прояснить, но он уже через пять минут был в три слоя замазан обычным Валеркиным веселым простодушием. Как часто нам до ума не хватает только памяти! Хотя иногда держать ее и нерентабельно – выгоднее любить и ненавидеть без памяти. А изменится рынок – глядь, она и выползла откуда ни возьмись, Феникс Фениксом. Помню же я, оказывается, тот оскал…
Валерка прилично рисовал. Хотя известно, что, рисуя, равно как и читая книги, императором не станешь, все же Валеркин талант позволял ему довольно часто конденсировать вокруг своей парты мужскую половину нашего класса, сдержанно погогатывающую над каким-нибудь потерявшим галифе фашистским генералом, исполненным с излишне натуралистическими подробностями, как всегда не оправданными идейной стороной замысла. Валерка же, приглашающе поигрывая глазками, досмеивал, с проницательным сарказмом мурлыча на мотив какого-то жестокого романса: «Собралися на берег скалистый публицисты, нацисты, фашисты. Собрались каждой твари по паре, чтобы Гитлеру спеть о любви». Видно было, что это очень тонкий ход.
Рисовал Валерка и стиляг, прорастающих из земли на переплетающихся ножках грибов-поганок, – Он, весь ушедший в гигантский «кок», и Она, пошедшая в «конский хвост». Это и впрямь были самые первые, самые нежные побеги стиляг, – их-то он безжалостно и вытаптывал, с убийственной усмешкой полумурлыча-полудекламируя: «Познакомились весной две стиляги под сосной и о модах стали говорить…»
Но что у него получалось действительно божественно – это корабли. Гордые красавцы гордо пенили волны, на гордых мачтах гордо трепетали вымпелы. Орудийные башни, уменьшаясь к вершине, громоздились друг на дружку, словно горка подушек на зажиточной мещанской кровати, а огненные клубы, бившие из стволов, заставляли каждого, кто их видел, твердеть лицом и, сощурив глаза, шептать еле слышно: бхх! бхх! – из самой глубины вулканизируемой души. И однако же я серьезно подозреваю, что именно тогда укрепилось во мне чувство причастности ко всему происходящему, чувство, заставляющее меня и злиться и радоваться так, как это бывает только с родней: ведь любовь столь сладостное чувство, что нас прямо-таки бесят качества наших близких, мешающие нам спокойно наслаждаться любовью к ним.
Правда, в двадцать лет я был разочарован аж во всей вселенной, но это, я думаю, было оттого, что мне казалось, будто у меня есть в запасе какая-то иная, гораздо более утонченная вселенная, куда я могу удалиться с надменной горечью на скорбном лике, – мне казалось, что тогдашним моим любимым творцам это удавалось (помнишь сатанински коварное наущение байроновского Люцифера: «Терпи и мысли – созидай в себе мир внутренний, чтоб внешнего не видеть»).
В мой байронический период я вроде бы навостривал лыжи в сторону вселенной Духа, – Дух, как ему и положено, был чем-то крайне зыбким, но скелетом его, во всяком случае, были Наука и Искусство. Мои любимые творцы были представителями свободных профессий и больше всего интересовались собственными делами, поэтому в их изображении история человечества представала историей Науки и Искусства. Сейчас я грань между Духом и Плотью провожу иначе: проблемы Духа – это просто общие (всем или многим, сейчас или когда-нибудь) проблемы Плоти (вернее, плотей): вопрос, например, где мне взять масла на ужин, – вопрос плоти, а вопрос, как сделать, чтобы у всех всегда было масло, – вопрос духа – науки, этики и т. п. А прежний Дух шибает на меня тяжелым духом.
Однако хватит. Вернусь лучше к моему герою. Мне в Валеркиных крейсерах, линкорах и эсминцах всего завиднее была техническая осведомленность, – живописные эффекты – это дешевка, это и дурак может, а ты нарисуй-ка и на корме какое-то приспособление, и на носу приспособление , и на башнях приспособления, и на мачтах опять же приспособления. И сразу видно, что это настоящие приспособления, сделанные из деталей.
Я тоже тайком пробовал грешить приспособлениями, сам их конструировал, пытаясь воссоздать дух деталей, но взгляну – и сейчас видно, что это не детали, а ерунда. А запомнить Валеркины – поди запомни, если понятия не имеешь, для чего каждая из этих деталей придумана. Я и по ученикам своим вижу, до чего трудно запомнить теорию, если не знаешь, зачем она нужна (а ведь и наш брат, учитель, увы, не всегда это знает!). Я пробовал искать помощи в книгах – но боже! – что за книги меня окружали! Средоточием их унылости как-то подчеркнуто постно глядела на меня невиданной толщины «Анна Каренина», словно распираемая всей скукой и никчемностью сугубо взрослой литературы. Я был умирающим от жажды в горьком океане. У нас не водилась даже «Книга юных командиров». Это была библиотека «Ничего для мужчин».