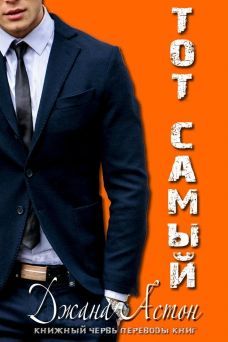Владимир Личутин - Сон золотой (книга переживаний)
И горькое чувство, от которого я рассолодился душою, внезапно делось куда-то, сменилось странным покоем, будто всё завещанное исполнилось сполна. Словно этой минуты я и подгадывал всю жизнь».
* * *Конечно, мать-сыра земля имеет над человеком власть магнетическую, светлую и таинственную и до сей поры неразгаданную; да, мы дети её, да, мы опутаны невидимым тончайшим кореньем и напоминаем блуждающие низкорослые деревья, пытающиеся все время оборвать связи со своей отчиной; да мы появляемся на белый свет из темного чрева земли и возвращаемся обратно, – но отчего-то Бог единственно нас, человеков, неразумных чад своих, отметил душою, и то, что мы носим в себе этот благословенный дар, – светоносный источник совести, как бесконечное испытание, – не только отделяет нас от родницы, разлучает, обессиливает, отемняет родство с нею, но и обрекает на пожизненную борьбу души с плотью, дает нам ту противоречивую двуликость, двусоставность, которою во всей истине не выявить философическим многомудрым умом. А с другой стороны и для матери-сырой земли мы, наверное, тот тончайший, настроенный Богом, инструмент, на котором только и может она обнаружить своё сердце и выразить тончайшие чувственные переливы, явить себя во всем, всегда неожиданном, обаянии. В этих хитросплетенных отношениях кормилицы-земли и человека столько глубины, мистики, мифа, тайны, недосказанности, отчего даже перо спотыкается на бумаге и не отыскивается самых точных и верных слов, чтобы кратко, но полно обозначить мысль. Хотя только человек может разглядеть особым взором красоту матери-сырой земли, восхититься её ликом и это непонятное восхищение, большее, чем радость, пронести до конца жизни.
Незабытно ощущение полноты детского счастия, что накатывает волною и захлестывает от макушки до пят. Середка июля. Три утра. А ночи на севере светлые, заря с зарею целуются, и не успеет солнце закатится за гряду синих лесов, ещё багровая коруна не потухла, а уж снова выпрастывается оно, бессонное, влажным золотистым ликом своим; в комнате светло, как днем, только серый туск маревит по углам, будто паутинок в короткое время навязали пауки-крестоватики, да на мелких отпотелых стеколках оконниц прозрачные кисейные пелена накинуты. Меня словно бы кто толкает в бок: де, хватит, засоня, в постели валяться, все бока протрешь до дыр. На этот внутренний безмолвный зов я и подымаю всякий раз голову, шарюсь взглядом по боковушке. Сон, конечно, тянет тяжелую голову за волосы назад к подушке, шея не держит (так убегаешься за день-то), постеля угрета, под одеялом в норе уютно и комар не долит. Но рыбалка, – пуще неволи. Два раза в сутки: прилив-отлив. Вода с моря в сутки запаздывает на час. Сопит братик на своей лежанке, у него все утехи ещё впереди, спит мать на кровати, голова туго укутана зеленым шерстяным платом и похожа на капустный кочан, одеяло вздернуто под губы, брови сведены строго, на переносье упрямая глубокая морщина. Глаза вроде бы плотно замгнуты, но ресницы мелко ворошатся; мама и во сне не может освободиться от ярма житейских дум, что не оставляют её душу.
Я надергиваю порточенки, рубашонку, – вот и все сборы. Крадусь к порогу на цыпочках, стараюсь не скрипнуть половицей, запираю в горле дыхание, только чтобы не потревожить мать. Но все ухищрения мои напрасны. Не успеваю добраться до двери, как мать, не открывая глаз, останавливает жалостливым голосом:
«Вовка, ты куда? И не лень тебе такую-то рань вставать? Все добрые люди спят, а ты каждую ночь на кой-то леший бродишь».
«Ма-а, я на реку, продольники вытрясать».
«Господи, какая такая неволя заставляет человека. Какие продольники, хоть бы рыбу носил... Сам себя человек мучает. Спать-то так сладко, век бы не вставал... И кто ему, дураку, спать не даёт?» – вяло бормочет мама, губы оковывает дремою, она протяжно вздыхает и проваливается в прерывистый сон.
Я осторожно прикрываю дверь, чтобы не скрипнуть, но мамин голос снова догоняет меня:
«Смотри там, осторожней у реки-то. Потонешь, дак лучше домой не приходи».
Я выскакиваю на крыльцо и замираю на миг, глаза мои от огняного шара, вспухающего по-за рекою, сразу застлало слезою, по задеревянелым от сна щекам, по обочьям будто кто невидимый вдруг мазнул маслицем с куропачьего пера, и оно сразу отволгло, отпотело, и головенка моя непутевая очистилась ото сна, а в груди неведомые птахи запели. Такого благословенного, доброрадного малинового улыбчивого солнышка, во вмятинках и пролежнях, с крохотным чубчиком розового облачка на макушке, к которому можно без опаски прикоснуться щекою и приобнять, не боясь испеплиться, – Солнца Бога, Солнца Отца небесного, которому поклоняется всякая живая тварь на земле и любит всем сыновьим сердцем, я, пожалуй, больше и не видал в дальнейшей жизни. Нет, я не поклонился Ему (как кланяюсь нынче, выходя в Пасху из церкви), я лишь обомлел, забылся, глупо улыбаясь вырастающему по-над лесами ярилу, и тут неведомая сила из ниоткуда плеснулась в меня, и всякая телесная жилка пробудилась и встрепенулась. (Вот вроде бы и много слов пролилось на бумагу, но осознаю, что все не те, вроде бы около, но не те; топчусь, будто старая лошадь у коновязи, что уныло мочалит стертыми зубами травяные пряди, наискивая в них живительной сладости; значит, напрасно мотаю жилы на кулак, ибо, увы, невыразимо словами то удивительное первобытное чувство изумления и восторга, что навещает нас только в детские годы, похожее на чудо. Душа-то юная, как незасеянная пустошка, ещё не облитая потом и слезьми. Это уж после, с годами, душа «закаравает» и закровянит, приняв в себя много страстей, утратит детскую наивную чистоту.)
Тихо на воле. Ещё птицы не очнулись. Небо высокое, белесым куполом, ни единого облачка, только по дальним склонам как бы слегка добавлено голубени. Значит, жара будет. На северах и такое бывает. Стены избы влажные, тень глубокая, в крапиву у крыльца упали комары-кровососы, намокли, ждут первых лучей, чтобы непрерывно воя, долбить клювами всё живое. Воздух слюдяной, плотный, но изнутри пронизан тонким сквознячком от набухшей за ночь земли, от болот, кустов ивняка, обметавших ближнюю опушку, от темных досчатых сараев кирпичного заводика, возле которого пасется лошадь «немко» – обжигальщика. Пожалуй, единственный в Мезени (а значит и во всем мире) взрослый, кто никогда не спит, это наш странный сосед-молчун, что сутками дежурит возле обжигальной печи, калит кирпич, порою закидывает в устье метровые чураки и длинное пламя, лисьим хвостом выметывающееся наружу, храбро прижимает железным заслоном. Мне же, прежде чем кинутся жеребенком-стригунком к реке, хочется весь родной околоток запечатлеть взглядом, чтобы, упаси господи, что-то интересное не пропустить мимо; я и на свой дом обернулся, окна были темны, непрозрачны, молчаливы. Значит, мать спит, ей не до меня.
Где-то взвизгнули поветные ворота, в другом дворе ударила щеколда на калитке, в соседях лайконула собака, кто-то густо закашлялся, сплевывая табачную мокреть, у Шавриных «занявгал» малой Колька, наверное уцепился за Шуркину рубаху, впился, как клещ, просится на рыбалку. Это река тянет к себе, будто наслан от неё по наши души приворотный дух. А старым молодых никогда не понять; эти, нынешние, словно из другого теста слеплены, иной выпечки, им сон не в сон, их ветер спутний в спину подгоняет; знать, махалки за плечами пробиваются, одеваются пером. Лететь пора.
Вот я и вылетел на угор, не чуя ног; бегу, только босые закорелые пятки гремят по мосткам. Далеко в утреннем воздухе слыхать; наверное, в другом конце городка отдается эхо. «Запышкался», боюсь опоздать, без меня приятели всю рыбу переловят. Вовка Манькин уже ждет; рожица плутовская, щеки, как плюшки зажарные, только что из печи, волосы торчком, глазки масляные, слегка косят. Шурка Шаврин не дождался, уже перепрыгнул через шарок-глинистый ручей, и сейчас уходил от нас споро, на рысях, и за ним тянулся молочный след. Ну и пусть спешит: с Шуркой никогда чаю спокойно не изопьешь. От поскотины поднимался пар, раздольная луговина была похожа на домашнее одеяло, сшитое из цветных лоскутьев, и куда падал солнечный луч, на каждой остроперой травине, на стоянце и в чашечке цветка обнизанных густой росою, вспыхивали и угасали чередою множество крохотных фонариков. Мгновение мы завороженно, в каком-то столбняке смотрели на знакомый до мелочей родной мир, и вроде бы не узнавали его. Нет, он оставался прежним каждой лопушиной и изгибом натоптанной тропы, скотиньими жирными набродами и излукой лугового озерца, но вместе с тем показался вдруг каким-то незнакомым, пестрым и улыбчивым, совсем непохожим на вчерашний. От земли-матери накатывало духовитым теплом, как от русской печи, материнской нежностью и счастьем. Мы ещё не сознавали, что это не вне, а в нас случились нежданные перемены, это в нашу душу с каждой новой встречей с природою проливаются благословенные капли небесного нектара, это наш беглый щенячий взгляд становится чуть пристальней и разборчивей.