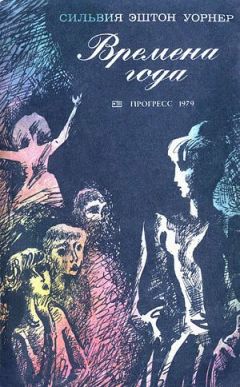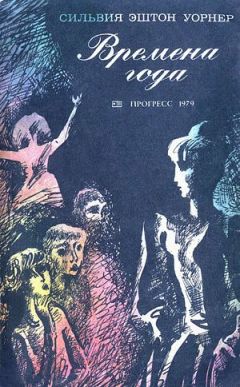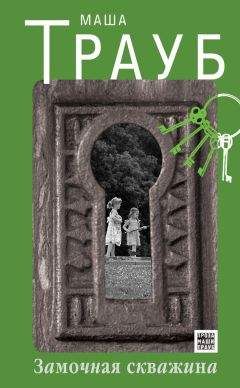Галина Таланова - Бег по краю
Её очень мучила её собственная неуверенность. Почему-то её подруги могли спокойно ориентироваться в незнакомой обстановке и запросто открыть чужую дверь, пригласить парня, понравившегося на вечеринке, и даже заявить родителям, что уже взрослые, курят и будут курить и прятать сигареты не собираются и вообще в их возрасте ночуют уже не дома. Она не собиралась курить, но страдала от того, что надо идти к соседям клянчить соли или просить захватить что-нибудь в город с дачи, так как папа приехать не смог. То, что она была несмелой и стеснительной, помогало им ладить с Ильёй: она ничего от него не требовала сверх того, что он мог дать, воспитанный своей матерью как единственный болезненный ребёнок.
106
Лидия Андреевна обнаружила, что теперь сутулится под рюкзаком прожитых лет, что за последние годы оказался так туго набит, что она совсем не могла его сбросить с плеч… Так, видно, и тащить до старости… Не выпрямиться уже никогда. Холод вечной мерзлоты потихонечку проникал в неё. Сначала она начинала мёрзнуть от кончиков пальцев рук и ног, затем холод постепенно поднимался по сосудам ближе к сердцу. Она мёрзла уже при обычной комнатной температуре. Почему-то вспомнила Сенеку из виденного когда-то по телевизору спектакля: «Старость – вечерами одеваю две туники и всё равно мёрзну».
Теперь она закутывалась дома в верблюжье одеяло и так и сидела, завёрнутая в него, как кролик под гипнозом удава, пялясь в телик, где опять стреляли в худенького мальчишку, встрёпанного, будто намокший под дождём воробей…
Голоса близких не уходили. Они целый день звучали у неё в ушах. Иногда она вздрагивала – и оборачивалась. Ей казалось, что за спиной у неё стоят её родные, отбрасывая изломанные тени на стены, и ждут её ответа. Она постоянно слышала их приказания: не делай этого! И отступала в растерянности, так и не совершив задуманного поступка. Это было как наваждение. Голоса звучали в ушах, будто музыка, она даже перестала слышать за этой музыкой окружающих. Медленно, словно выплывала из тумана сна, возвращалась в окружающую действительность… Близкие тут же исчезали, таяли, как дыхание, оставленное тёплыми губами на ледяном стекле. Но проходил час-другой – и снова Лидия Андреевна ловила себя на мысли, что она опять спрашивает у них совета. Когда звонил телефон, она вздрагивала, тормозя свой рывок к надрывающемуся аппарату, напоминающий прыжок с вышки (как в морскую бездну летишь, задержав на мгновенье дыхание, набрав полные лёгкие воздуха и зажмурив глаза). Ей всё время казалось, что это дети ей звонят или Андрей… В шумной толпе ей хотелось крикнуть: «Да не галдите же вы так, вы же не даёте услышать моих родных, я почти не различаю их голосов за вашим гвалтом, но хорошо знаю, что они звучат громко и чётко, будто голос диктора, вещающий новости. Я спрашиваю у них совета, и они отвечают мне, и, если раньше я могла поспорить и сделать что-то наперекор их советам, то сейчас я этого сделать не могу, просто не имею права. Руки деревенеют на холодном ветру, узелок не развязывается закоченевшими пальцами в подагрических буграх, похожих на обломанные сухие сучья. Мои близкие были бы рады, зная, что теперь я живу по их подсказкам…»
Позвонил Гришин школьный друг. Попросил позвать его к телефону. Она ответила, что тот теперь в другом месте и здесь больше не появится. Друг осведомился:
– В каком?
Она ответила, что Гриша теперь там, где сестра и отец. Парень долго молчал…
Потом спросил:
– А, может, Вы их телефон дадите?
Позвонил сосед, сказал, что мужики решили сделать автостоянку во дворе. Нужна их подпись, а, если они хотят иметь место для своей машины на ней, то пусть Андрей, когда появится, ему позвонит.
Лидия Андреевна ответила, что Андрей не появится, что он умер. Наступила тишина, закладывающая уши, будто в них сорвавшейся волной залило воду. Лидия Андреевна решила было, что разговор разъединили. В трубке не было никаких признаков жизни, даже обычного шороха и треска ломающегося кустарника, когда через него продираешься на ягодную полянку.
– Алё! – сказала она.
– Да, да… Я слушаю. Я просто не могу прийти в себя. Мы же недавно с ним говорили.
– Его уже почти два года нет…
Вот так мы и живём. Никто ни о ком ничего не знает. И при этом все знают обо всём: у кого какая любовница, кто какую машину купил и кто сколько получает. Не знаем только одного, что человека давно нет. Умер, ушёл и никогда не вернётся, а, значит, и подпись его уже больше не требуется.
Только голос его всё звучит и звучит, всё пытается с тобой поспорить… Вот ты опять слышишь, что голос начинает звучать всё громче, дребезжать, как оконное стекло от прошедшего по улице трамвая и, слушая этот всё накаляющийся голос, внезапно отступаешь, боясь обжечься жарким дыханием, и думаешь: а ради чего и зачем поднимаем давление своим близким? Надтреснутый голос пытается взять ноту всё выше и выше, уже неуклюже карабкается по обледеневшим горам… И вот уже трещинка с надломившегося голоса бежит по сердцу… И ничего нельзя изменить, и лицо белое, будто снег заоблачных вершин и вечной мерзлоты…
107
Жизнь для каждого теряет смысл по-разному, но результат – утрата этого смысла – одинаков для всех. Раньше она любила уезжать из дома в командировки. Бежала от повседневной рутины, надеясь стряхнуть с себя осевшую пыль. Скучала, конечно. Звонила каждый день, спрашивала: «Как дела?» Чем ближе было к концу командировки, тем сильнее скучала. Говорила со всеми по очереди, ждала целый день, что вот, наконец, она услышит голоса своих близких. К её приезду муж и дети всегда готовились: убирали квартиру, стряпали что-нибудь вкусное, Андрей даже цветы иногда покупал. Она же каждому привозила обязательно подарок. Потом всем семейством весело разбирали её чемодан, примеряя обновки. Самое хорошее, наверное, и было в этих командировках – вот это её возвращение, да ещё ожидание, когда тебя соединят по междугороднему проводу – и ты услышишь голоса своих родных. За время её отсутствия и она сама, и её близкие забывали про все мелкие, наносные и изматывающие стычки, все обиды выцветали в памяти, как пятно, пролившееся из гелиевой ручки, что оказалось под лучами солнца.
Теперь звонить было некому. И, как это было ни странно, уезжать не хотелось, хоть и казалось, что должно бы быть наоборот. Нестись из своего дома, к людям, забыться хоть на неделю (хотя разве можно забыться?)… Но желание бежать почему-то исчезло. Всё время теперь тянуло закутаться в тёплое ватное одеяло, забиться с головой в свою нору и так и лежать наедине со своей болью, баюкая её, точно раскричавшегося младенца. Ей казалось, что другая жизнь, другие города и новые люди могут запросто заглушить голоса твоих родных. Они перестанут в ней звучать, как музыка… Начальство на работе, напротив, хотело её постоянно «встряхнуть», проветрить… Уезжала она в командировку теперь с щемящим чувством утраты дома, в котором потеряла всех своих близких, но дом помнил каждой своей вещью движения их тел, впитал их тепло и полнился их голосами. А теперь она будто оставляла своего старого товарища, с которым у неё были общие воспоминания. Слёзы набегали на её щёки, всё больше становящиеся похожими на картошку по весне… Гуляя по чужому городу и всматриваясь в лица прохожих, она постоянно думала о том, что вот они торопятся домой к своим родным и любимым, а она одна в этом чужом городе, и в своём – всё равно одна. Она периодически ловила себя на мысли, что ей нестерпимо хочется позвонить домой и чтобы ей позвонили тоже. Но только накручивала на горло шарф поплотнее, ёжась от озноба, стекающего по спине струйками, как от проливного дождя. Приходила в гостиницу, бросала кипятильник в эмалированную кружку, всю в незаживающих оспинах отбитой эмали, и сидела, смотря на белоснежный потолок, где не было ни одной знакомой трещины и который напоминал ей заснеженное кладбище. И нестерпимо хотела домой, туда, где всё помнило о её близких. Её даже больше теперь тянуло домой, чем раньше. Прежде было предвкушение скорой встречи и сиюминутности этой её праздной командировки, где ей дали увольнительную на время от работы на конвейере чётко отлаженного механизма её дома... Теперь механизмом была она сама… Скрипящим и несмазанным. Раньше она могла позвонить и знать, что скоро будет встреча… Ныне у неё оставались только воспоминания. Воспоминания не уходили, бродили брошенными голодными кутятами по чужим дворам в поисках потерянных хозяев…
Она никак не могла собраться с силами и разобрать вещи своих близких. Всё так и лежало, как существовало при них. Так ей было легче. Создавалась иллюзия, что они просто куда-то ушли из дома: уехали ненадолго, вышли погулять и скоро вернутся. Она иногда осторожно входила в их комнаты днём, вытирала накопившуюся пыль и по-кошачьи мягко выскальзывала, поплотнее прикрыв за собой дверь. Вечером она почему-то к ним не заходила… Боялась нахлынувших воспоминаний, что подхватят чёрным потоком, сбегающим с гор после урагана, унесут, затянут в чёрную воронку? Но разве она уже не в воронке, из которой никогда не выбраться? Можно ещё побарахтаться, но какой смысл выплывать? Тяжёлая рука на затылке, которая мигренью вдавливает твоё лицо в его отражение, сморщенное плачем и гримасой боли.