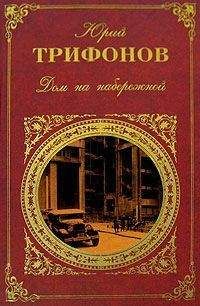Зэди Смит - О красоте
— Кого тут только нет, — прошептал Джером (здесь все говорили шепотом). — Смотрите, она с кем только не общалась! Вы можете вообразить, чтобы у нас, в Америке, на похоронах, да и где бы то ни было, собралось такое разношерстное общество?
Оглядевшись, остальные Белси с ним согласились. Тут были люди всех возрастов и цветов кожи, нескольких вероисповеданий; некоторые — в дорогих шляпах, жемчугах, кольцах, со строгими сумочками, некоторые — явно из другого мира: в джинсах и бейсболках, в сари и коротких пальто с застежками-палочками. И среди них — какое счастье! — Эрскайн Джиджиди. Окликать и махать рукой было бы неприлично; за другом семьи отправили Леви. Топая, как слон, Эрскайн, в щегольском зеленом твидовом костюме, направился в их сторону, помахивая зонтом, словно тросточкой. Не доставало лишь монокля. Кики смотрела на него и недоумевала, как она раньше не заметила: Эрскайн — портновская копия Монти, только чуть более вычурная.
— Эрск, слава Богу, и ты здесь, — Говард крепко обнял друга. — Но каким ветром? Я думал, ты на Рождество будешь в Париже.
— Я и был там, мы остановились в «Крийоне» (что за прелесть этот отель!), и мне позвонил Брокс, лорд Брокс, — вскользь упомянул Эрскайн. — Но, Говард, сам знаешь, с нашим приятелем Монти я знаком целую вечность. У нас давний спор: кто — он или я — был первым негром в Оксфорде. Пусть мы порой расходимся во взглядах, но мы люди цивилизованные. Поэтому я здесь.
— Разумеется, — с воодушевлением сказала Кики и пожала ему руку.
— Ну, и Каролина настаивала, — с ехидцей добавил Эрскайн, кивнув на свою сухощавую жену, стоявшую поодаль, под церковной аркой. Каролина была поглощена беседой с популярным в Англии темнокожим ведущим теленовостей. Эрскайн посмотрел на нее с насмешливым обожанием.
— Невероятная женщина моя жена. Кто, кроме нее, способен вербовать политических сторонников на похоронах? — Эрскайн, приглушив голос, рассмеялся сочным басом. — «Там будут все, кто хоть что-то из себя представляет», — скверно передразнил он атлантский выговор жены. — Однако, боюсь, их здесь существенно меньше, чем она ожидала. Половину присутствующих вижу впервые. Но пришли так пришли. В Нигерии на похоронах рыдают, а в Атланте, судя по всему, налаживают связи. Удивительно! А вот встретить здесь вас я никак не ожидал. Я думал, вы с Монти скрестите клинки только в январе. — Эрскайн сделал выпад зонтом. — Такие слухи ходят среди наших коллег. Да, Говард. И не говори мне, что ты пришел сюда без всякой задней мысли! Я что-то не то сказал? — всполошился Эрскайн, потому что Кики выдернула ладонь из его руки.
— Ммм… Видите ли, мама близко знала Карлин, — пробормотал Джером.
Эрскайн выразительно прижал руку к груди.
— Что же вы мне сразу не сказали! Кики, я понятия не имел, что вы были знакомы с этой дамой. Я крайне смущен.
— Не стоит, — сказала Кики, но глядела холодно.
Любые социальные трения выбивали Эрскайна из
колеи. Казалось, он испытывает прямо-таки физические мучения.
На помощь ему пришла Зора.
— Смотри, пап, гам не Зия Мальмуд? Тот, с которым вы вместе учились?
Зия Мальмуд, комментатор культурных событий, бывший социалист, участник антивоенных митингов, эссеист, поэт «на случай», бельмо на глазу для действующего правительства и завсегдатай телевизионного эфира, или, как лаконично формулировал Говард, «типичный попка-дурак», стоял у обелиска и курил свою фирменную трубку. Говард и Эрскайн поспешно ввинтились в толпу, чтобы поприветствовать своего оксфордского однокашника. Кики смотрела им вслед. Она видела, как на лице мужа крупными мазками проступало пошлое облегчение. Впервые с того момента, как они сюда приехали, он наконец перестал дергаться, рыться в карманах, ерошить волосы. Ибо здесь оказался Зия Мальмуд, близко не имеющий ничего общего со смертью и потому возможный источник лакомых новостей из мира вне этих похорон: Говардова мира разговоров, споров, врагов, газет, университетов. Будем говорить о чем угодно, только не о смерти. Но ведь на похоронах долг каждого — отдать дань памяти усопшему! Кики отвернулась.
— Знаете, — сказала она горько, не обращаясь ни к кому детей в особенности, — мне надоело слушать, как Эрскайн поливает грязью Каролину. Вечно мужчины говорят о женах с презрением. Да, с презрением. Противно!
— Ой, мам, да не имел он в виду ничего плохого, — утомленно произнесла Зора, вынужденная в очередной раз объяснять матери подлинный смысл слов. — Эрскайн любит Каролину. У них крепкая семья.
Кики сдержалась. Открыла сумочку, пошарила в ней в поисках блеска для губ. Леви, от скуки пинавший гравий, спросил у нее, кто тот увешанный толстыми золотыми цепями тип с собакой-поводырем. Наверное, мэр, предположила Кики. Мэр Лондона? Угукнув в ответ, Кики снова отвернулась и встала на цыпочки, глядя поверх голов. Она искала Монти. Любопытно на него посмотреть. Как выглядит человек, потерявший бесконечно обожаемую супругу? Леви продолжал допытываться: «Всего города? Как мэр Нью-Йорка?» Может, и не всего, раздраженно отмахнулась Кики, может, только вот этого места.
— Не, серьезно… Ни фига себе, — сказал Леви и оттянул жесткий воротник рубашки.
Это были первые в его жизни похороны, но важнее было другое. Нереальное сборище! Дикая классовая мешанина (поразительная даже для такого американизированного подростка, как Леви) и, несмотря на тянущуюся по всему периметру полуметровую кирпичную стену, никакой уединенности. Безостановочно проносились машины и автобусы; горластые школьники курили, показывали на собравшихся пальцем и шушукались; как видения, проплывали мусульманки в полном хиджабе.
— Ну и дыра, — нарушила молчание Зора.
— Ты пойми, она предпочитала именно эту церковь; я ходил сюда с ней. Она, наверное, сама захотела, чтобы отпевание состоялось здесь, — возразил Джером.
— Я тоже так думаю, — сказала Кики.
У нее защипало глаза. Она сжала руку Джерома, и тот, тронутый ее переживаниями, ответил пожатием. Безо всякого объявления (по крайней мере, Белси его не слышали) люди стали входить в церковь. Скромный интерьер соответствовал внешнему облику здания. Каменные стены соединялись деревянными балками, а крестную перегородку[76] из темного дуба покрывала незамысловатая резьба. Витраж симпатичный, красочный, но простенький, и роспись только одна — высоко на задней стене, неосвещенная, пыльная и слишком сумрачная, ничего не разобрать. В общем, если смотреть вверх и по сторонам, как люди обычно делают в церкви, все было привычным глазу. Но потом взгляд обычно обращается под ноги, и тут неподготовленные новички, как правило, вздрагивали. Даже Говард, считавший себя безжалостным и несентиментальным, когда речь заходила об архитектурных новшествах, не нашел чем восхититься. Каменный пол целиком покрывал тонкий оранжевый с серым ковер: много больших кусков встык — ворсистых, заводской работы. На каждом рисунок: оранжевые квадраты поменьше, с унылой серой окантовкой. От долгого использования оранжевый покоричневел. Да, еще скамьи, точнее, их отсутствие. Все до единой скамьи были вырваны и заменены рядами официозных кресел того же типично аэропортного оранжевого цвета, поставленных застенчивым полукружьем, долженствующим создать (как представилось Говарду) дружескую, неформальную атмосферу для утренних чаепитий и собраний общины. Все вместе выглядело в высшей степени тошнотворно. Восстановить приведшую к такому результату логическую цепочку было несложно: финансовые затруднения, за скамьи девятнадцатого столетия можно выручить денег, горизонтальные проходы давят строгостью, а полукруг создает доверительную обстановку. И все-таки это казалось варварством. Уж больно уродливо. Вслед за мужем и детьми Кики села на неудобное пластмассовое сиденье. Как это часто бывает с могущественными людьми, Монти, видимо, хотел подчеркнуть свою близость к простому народу — и подчеркнул, за счет своей жены. Неужели Карлин не заслужила ничего лучше, чем эта ветхая церквушка на шумной трассе? Кики затрясло от негодования. Но потом, когда все расселись и приглушенно зазвучал орган, Кикины мысли развернулись в прямо противоположную сторону. Джером прав: сюда Карлин ходила молиться. Какой Монти молодец! Ведь он мог устроить отпевание где-нибудь в Вестминстере или в Хэмпстеде, а может — кто его знает? — даже в соборе Святого Павла (совсем оторвалась от реальности Кики), но нет. Здесь, в Уиллсден-грин, в скромной маленькой церкви, которую она любила, в присутствии прихожан, которым она была дорога, Монти решил проводить в последний путь дорогую своему сердцу женщину. Кики тотчас упрекнула себя за свое первое, типично белсианское, суждение. Неужто она разучилась распознавать даже самые очевидные искренние чувства? Эти люди просто-напросто любят своего Бога, в этой церквушке все устроено так для удобства прихожан, а это честный человек, который любил свою жену, — такие нехитрые вещи в расчет не берутся?